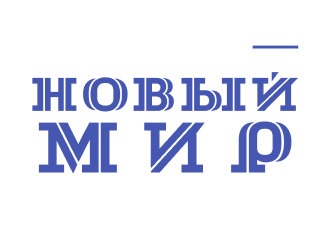Григорий Аросев, Евгений Кремчуков
*
ДЕЛЕНИЕ НА НОЧЬ
Роман
Окончание. Начало см.: «Новый мир», 2019, № 7
Начало
Белкин в глубочайшем волнении несся по улицам, едва огибая прохожих, не видя перед глазами ничего, кроме фотографии, которую получил от Воловских по электронной почте. Едва взглянув на нее, он вскочил, в очередной раз за последние дни почувствовав сильное сердцебиение, и чуть не заорал, потому что все, буквально все выстроилось в нужную цепь. Он позвонил старику и чуть ли не потребовал личного разговора.
...С самого начала поручения Белкин постепенно приучал себя обращать внимание на знаки. Знаки и символы, да-с. И вот как раз накануне, незадолго до звонка Гусевой, Белкин вспомнил Ангелину, Лину, свою любовницу, к которой он в студенческие времена весело сбегал с лекций. Лина обитала невообразимо далеко, в Буграх, однако жила только с десятилетней дочерью, получала от бывшего мужа приличные алименты и активно скучала. От скуки-то и завела себе молодого Белкина, которого приучила раз в два дня приезжать вместо первых двух пар, пока дочь в школе. Характер у Лины оказался дряннее некуда, поэтому особо много лекций прогулять Белкину не довелось — они рассорились примерно на третьей неделе. Но запомнил он Лину накрепко.
Зачем? Почему? С чего вдруг она всплыла в памяти? Должна быть цель. Которая уляжется в цепь событий. Выпроводив Елену и поговорив с Воловских, Белкин решил все-таки разобраться.
Внешность? Необязательно. Лина выглядела не очень типично, но и не до безумия оригинально. Уцепиться не за что.
Тело? Белкин помнил его очень хорошо, включая не самые приятные подробности, но привязать тело Лины к окружающим его обстоятельствам не смог при всем желании.
Одежда? Нет. Дочь? Нет. Тупая ревность Лины, из-за которой она его выгнала прямо во время процесса? Нет, ревность в исследовании не играла ровно никакой роли. Удовольствие? Да, большое, но...
Голос? М-м... Сам голос — точно нет. А может быть... слова? Но что же она говорила?
И тут Белкина проняло так, как никогда ранее. От невероятности всплывшего в памяти он прослезился и застонал. Белкин вспомнил, что в их любовной связи его смущало сильнее всего, помимо ранее неиспытанной ревности партнерши. Лина на каждое движение его плоти реагировала одинаково — странным, гулким, совершенно чужим голосом она извергала одно единственное слово: «Мама». Белкину это не нравилось, даже чуть пугало, но Лина была старше лет на десять и он по большому счету вел себя очень робко, ничего не выясняя и не предлагая.
Так ведь и во сне он звал Лину!!!
Через десять минут по электронной почте пришло письмо от Воловских, и вся цепь сомкнулась.
— Прежде всего, Владимир Ефремович, я бы попросил вас согласиться с тем, что мы действуем в области иррационального, а не логического. Мои умозаключения, нет никаких сомнений, покажутся вам странными и мало чем подкрепленными, но я, как мне кажется, сумел выполнить вашу просьбу: стать Алексеем.
— Я весь внимание, Борис Павлович.
— Начнем ab ovo. Супруга ваша умерла при родах. Алексей ее не знал. Его отношения с вашей второй женой отсутствовали, потому что вы разошлись, когда ему не исполнилось и десяти лет, а до того, по вашим же словам, они мало общались. Все верно?
— Пока да.
— Теперь я выскажу предположение. Мне кажется, вы с ним никогда, или почти никогда, образ матери не затрагивали. Этой темы для вас двоих не существовало.
— М-м... Мне горько признавать вашу правоту, но все так. Говорили, но крайне редко. Раза три. Однажды, правда, разговор получился очень серьезным и резким, но кроме него за всю жизнь ничего больше не происходило.
— Я думаю, что вы подсознательно сторонились ее, так как вам было мучительно неловко, вы как будто чувствовали себя виноватым в ее смерти, а значит, в безматеринстве сына. Ну а Алексей каким-то образом предполагал это и просто не решался заговорить с вами. Вас он, я полагаю, вопреки всем разногласиям, любил и не хотел дополнительно огорчать. Но страдал он неизлечимо.
— Борис Павлович, вы бьете наотмашь, безжалостно, — проговорил Воловских.
— Ох, — спохватился Белкин. — Похоже, я допустил бестактность. Приношу извинения, Владимир Ефремович. Давайте этот вопрос мы опустим. В результате нашего исследования мы выяснили, что Алексей вообразил себя переводчиком Близнецовым, придумав условного близнеца, в котором, очевидно, воплотил все свои представления о себе идеальном. Как именно он себя видел в Близнецове, мы пока не знаем и не факт, что узнаем. Вряд ли мы узнаем и ход дела: как он пришел к своей идее и как она развивалась в его голове. Но никакого Близнецова на самом деле не существовало — по крайней мере в окружении Алексея.
Но все это более-менее обоснованные выводы. Дальше я задался вопросом, что привело Алексея к такому помешательству, и вот тут-то и начинается сплошная метафизика. Вначале я без малейшего повода вспомнил свою очень давнюю любовницу по имени Лина, которая во время соития постоянно кричала одно слово: «мама». Потом мне приснилась моя знакомая Полина, которую я не видел с четверть века. Я в подростковом возрасте влюбился в нее — естественно, без близости и даже без намека на нее, но Полина меня называла во сне своим ребеночком и звала к себе. Есть и другие наблюдения. (В каком бы Белкин ни был раже, упоминать Елену он не собирался.) И теперь я получаю от вас фотографию могильного камня, на котором написано имя Алина. Полина, Лина и потом Алина. Итого: я считаю, что Алексей настолько сильно тосковал без мамы, что в итоге стал слышать ее голос и решил уйти к ней. Дыра в его душе оказалась фатальной.
Воловских выпил полный стакан воды.
— Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать.
— Понимаю, Владимир Ефремович. Но все мои выводы могут оказаться...
— А как тогда связать тоску по матери и образ Близнецова?
— Проще всего. Он придумал нового себя — с папой и с мамой, такой, которую знал. Вы не заходили еще раз на поэтическую страницу Хика Сволова?
— Нет...
— А я заходил! И перечитал оба текста. В них ясно говорится...
— Но ведь Алеша там написал, что Близнецов умер! — закричал Воловских.
— Во-первых, я предупредил, что лишь выдвигаю предположения. Во-вторых, я не психолог. Думаю, что профессионалу ответить на такие вопросы несложно. Я тоже, конечно, задался вопросом, почему Алексей так написал, а еще ведь он вам лично сообщил, что Близнецов утонул. Почему? Я думаю, он понимал, что находится на грани безумия и что с этим надо что-то делать. Вероятно, он таким образом пытался распрощаться с Близнецовым в себе.
— Но не смог?
— Но не смог.
— А дальше?
— Дальше — что?
— Как он погиб? Куда он исчез?
— Я не должен был этого выяснять. Мы договорились, что я попробую понять, какой может быть пароль. Все прочее — не в моей власти. Я могу быть преподавателем, философом, даже немного индусом, раз уж вы попросили меня переселиться в душу Алексея. Но Холмсом или Мегрэ я не буду, я не умею.
— Но если вы смогли им стать, вы знаете, что он с собой сделал!
— Я предполагаю, что он не случайно погиб, а покончил с собой, но совершенно не утверждаю. Каким образом, где — не спрашивайте, вы можете строить такие же догадки, как и я.
Они помолчали.
— Исследование завершено?
— Несомненно.
— А пароль?
— «Мама двадцать девять одиннадцать».
Воловских резко выдохнул и закрыл глаза. Потом снова открыл.
— «Мама двадцать девять одиннадцать»?
— Да. Дата — цифрами, само собой.
— Вы уверены?
— Не полностью, но иной версии у меня нет.
— Спасибо. Интересный вариант.
— Но я не знаю, что там с прописными и строчными буквами. Есть большой риск, но здесь я точно бессилен, — проговорил Белкин, уже по ходу фразы замечая, что Воловских его не особо слушает.
— Сколько я вам должен?
— Да ничего вы мне не должны. Я буду очень рад, если вы ответите еще на пару моих вопросов, но можно позже. И на этом все.
— Да, конечно же. Я готов.
— Надо решить, хотим ли мы попробовать ввести пароль.
— Я очень вас прошу, давайте вначале вы зададите все вопросы. А потом я сам его попробую ввести. Рискну. И расскажу вам, что получилось.
Белкин улыбнулся.
— Странно, по правде говоря. Но пусть будет по-вашему.
Снова замолчали. Старик явно психовал. Но не из-за пароля. Что же, что же, что же? Белкин лихорадочно обдумывал последнюю реакцию Воловских, включая в себе то Холмса, то Мегрэ, ибо кто они, по большому счету, если не логики, рассуждатели, строители теорий?
Белкин понимал, что именно сейчас решается судьба всего исследования. Не тогда, когда он узнал во сне Полину, не тогда, когда он вдруг зачем-то вспомнил Лину, и не тогда, когда он увидел несчастную Алину, — а именно сейчас. Требовалось обязательно поднатужиться и подумать о чем-то ключевом, догадаться о самом важном, вспомнить решающее.
Даже в своем отражении в зеркале Белкин не был уверен так же сильно, как в том, что его общий вывод, только что изложенный Воловских, убедителен, великолепен и солиден, но в конечном счете ложен. И вопросы, которые он хотел задать Воловских, никому не нужны. И цена всем его озарениям — меньше гроша.
Но как же зацепиться?
За что?
Он огляделся, надеясь на помощь фатума.
Гостиная Воловских не выглядела уютной. Все стерильно. Вылизано. Ни намека на бардак. Книги строго на полках. Картин нет, фотографий нет. Взгляд ищет опоры, скользя и падая.
— Хотите чаю? Или кофе? — предложил Воловских.
— Можно чаю, спасибо, — рассеянно отозвался Белкин.
Старик двинулся на кухню.
Чай-кофе. Чай-кофе. Или одно, или другое. Чай-кофе. Кошки-собаки. День-ночь. Театр-кино. Рыба-мясо. Война-мир. Лелек-Болек.
Рок-попса. Горбачев-Ельцин. Москва-Питер.
Коммунизм-демократия. Консерваторы-лейбористы.
Чехов-Горький. Ахматова-Цветаева. Соловьев-Ницше.
Западники-славянофилы.
О нет. Неужели? Неужели опять «неужели»?
Догматизм-скептицизм.
Догматики-скептики! Черт подери, ну да! Вот теперь — точно да!
В студенческие годы Белкин с друзьями с большим удовольствием и смехом обсуждали, кто из них кто — скептик или догматик. Белкин всегда стоял на позициях скептицизма. Все, что нельзя доказать практикой, следует подвергать сомнению.
Тогда почему он так поверил словам Воловских? Ведомый искренним порывом, Белкин совсем забыл о своих давних принципах. Что он сам видел на практике? Несколько документов в деканате. А от Воловских — только ноутбук. Чей-то. Может, он вовсе и не Алеше принадлежал. Старик же, кстати, и свидетельство о смерти не показал, хотя Белкин и не спрашивал. По учению скептицизма нет уверенности даже в том, что Алексея нет в живых.
Но ведь Воловских действительно реагирует нелогично. Значит, Белкин где-то рядом, но до правды не дошел. Бродит рядом с правдой. Но насколько рядом? Как далеко? А старик-то после слова «мама» и впрямь выдохнул. Или наоборот встревожился. Возможно, история в целом правдивая, но не в нюансах. Но почему, почему Белкин оказался втянут в нее? Нет, не догадаться. По крайней мере не в эту секунду.
Похоже, пора блефовать. Иного выхода нет.
Воловских вернулся в гостиную с двумя чашками чая. Белкин взял одну и отпил, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, ни температуры. Ну, начнем...
— Владимир Ефремович, скажите, зачем вы все это затеяли?
— О чем вы, Борис Павлович?
— Зачем вам понадобилась история исчезновения Алексея? И почему вы позвали меня?
— Борис Павлович???
— Я, может быть, идиот, но не окончательно. Свой вывод я сделал, вы его уже знаете. Но есть и другой. — Белкин нарочно интригующе замолчал.
— Какой — другой?
— Что все совсем не так. Я вижу слишком много нестыковок, Владимир Ефремович, и могу их вам расписать от и до. Но я не буду обращаться в полицию и вообще куда-либо. Осложнения не нужны в первую очередь мне. Просто знайте: я допускаю, что Алексея нет в живых, хотя я не уверен в этом на сто процентов. Зато более чем на сто процентов я убежден в том, что абсолютно все, рассказанное вами в нашу первую встречу, — ложь. Абсолютно. Все.
— Нет, — снова закричал Воловских, — не все!!!
И в удвоенном отчаянии швырнул чашку об стену.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЛОЖЬ
двенадцатое
Дверь за моей спиной закрылась. Повернулся ключ — раз, и другой, звякнула цепочка. Ну, пусть все и останется — там, за тихой тяжелой дверью. Имена, судьбы, нити, жизни. Спустившись на один пролет в парадном, я остановился на площадке, прикрыл глаза. Так живописец, нанеся на холст последние мазки, отступает на пару шагов осмотреть уже снаружи краткое совершенство закрепленного его красками мира. Все завершено, решено все, теперь — вниз, на улицу, к метро, домой. Да! Так, будто не ногами иду, а крыльями лечу, я был рад своей вернувшейся свободе, в которой можно до завтрашнего вечера просто выбросить из головы все на свете, и быть собой, и отправиться к себе, ни о чем не думать и не распутывать никаких хитросплетений, тайных крючков, умолчаний, взять по дороге пакет пельменей и фанфурик «Мартеля» в «Дикси» на вечер, сварить дома крепкий кофе, спокойно и отрешенно почитать новые статьи на «Кольте», где наверняка накопилось интересного за неделю, посмотреть Лигу чемпионов перед сном. Кто там сегодня играет, глянул, уже поднимаясь на эскалаторе, в смартфон: пожалуй, «Барселона» — «Ювентус» — самая яркая вывеска, хорошо бы их и показали.
Я наконец-то мог вернуться в свое личное, частное, ничье другое время. Оно принадлежало только мне, и я снова не должен был больше делить его ни с кем.
Во дворе встретилась соседская киска Василиска, трехцветная, со второй площадки. Посмотрела на меня пристальными изумрудами своими, с грациозной ленцой повернув голову, этакая боярыня, да и отвернулась. Осталась лежать у подвальной решетки в ожидании человеку не понять чего. «Привет, красотка», — негромко поприветствовал я Василиску и уже за дверью парадного подумал о братьях и сестрах меньших, этих загадочных наших сопланетянах, — мы даем им наши имена, которые, вероятно, мало имеют общего с их собственными именами, мы привычно воображаем в них себя самих и самонадеянно наделяем их нашими свойствами, а между тем они ведь совершенно, невыразимо другие. Другая форма сознания — навсегда сокрытой от нас природы. Что она помнит сама? — не так, как хочется вообразить прохожему мне или хозяевам ее, а именно что — сама, эта соседская Василиска: от слепого своего первого дня, когда крохотный ее мир был наполнен только одним-единственным запахом и одним теплом материнского подбрюшья, и до сегодняшнего сентябрьского одиночества в большом мире солнечного этого двора, и не хранит ли память ее, отличная от нашей раздельной человеческой памяти, — общие, единые на всех воспоминания сотен прошлых кошачьих поколений перед ней?..
Слушай, а ведь ровным счетом наоборот, ущипнуло вдруг понимание.
С самого раннего детства, и чем дальше, тем больше, у человека есть не только его личная, частная, маленькая индивидуальная память — день ко дню, год от года в нее вплетаются и врастают наживо фрагменты, ленты памяти других людей. Тех, кто рядом с тобой, и тех, кто далеко, тех, кто дышит воздухом того же времени, и тех, кто дышал воздухом давно прошедших времен. Вырастая, обрастаешь и человечеством. Ты помнишь, как если бы знал сам, и набегающую на песок волну моря Галилейского, и аккерманский студеный ветер, и дымку весенних туманов над бухтой Вака-но-ура, и долгожданный, предвкушаемый, торжественный миг, когда входит в просторные сени старик в огромной искрящейся с мороза шубе: «Где тут у вас, братец, нужник?..»
Каждый фрагмент человеческой речи представляет собой не просто мгновенную, исчезающую в глухой темноте извечной ночи «вспышку коммуникации», это также и то, чем прирастает память человека, и его собеседника, и всего человечества. Вот оно что, у нас есть, оказывается, язык, таинственный жезл, окуни его в живую воду сознания, в глубину твоего, моего, другого, всякого «я», и он шевельнется там пульсом, жилкой, током тепла, оттаивая и наполняясь течением речи. Речи, сохраненной — сохраняемой — и в самой малой своей капле великим морем человеческой культуры, пускаясь в плавание по которому — по собственной ли воле или стечением обстоятельств, — в сущности, каждый из нас странствует, как аргонавт, в движении ли к заманчивой цели или к оставленному позади дому, вооруженный ли ловкостями мореходной науки или вверив судьбу играм проказливых братцев Борея, Зефира, Нота и Евра, но с каждым вдохом и взмахом весла чуть смещается твоя маленькая точка в герменевтическом круге земном, где живут люди любых времен и что очень изрезан заливами.
Когда я доставал ключи, в другом кармане ветровки пискнуло уведомление. Только не с работы, ведь нет? Не хотелось пока думать ни о чем постороннем. Надо бы, конечно, начинать готовиться к конференции, плюс освежить кое-что в памяти по запланированной для кафедрального сборника статье, да и отзыв Зайцеву уже пора, пожалуй, написать, но все это пусть останется на послезавтра, ну, хорошо, на завтрашний вечер... Нет, оказалось, «Фарида Загидулина отправил(-а) вам фото», что ж, полюбопытствуем. Она, кажется, собиралась на день-другой в Выборг по делам издательства, на какую-то там презентацию или фестиваль. И теперь вот прислала мне селфи на фоне залива, чаек, моря синего, синего неба. Чего Фарида никогда не забывала — прихватить с собою в любую — хоть рабочую, хоть развлекательную — поездку свою специальную телескопическую палку для самофоток (штука эта, с вирусной скоростью несколько лет назад захватившая весь турмир, как-то официально называлась, но я, когда нужно, никак не могу припомнить слова). Я взглянул еще раз на смеющуюся, круглолицую и пышногрудую свою татарку, повесил пакет с припасами на дверную ручку, отстучал в ответном сообщении «Ну вообще красотка!», убрал телефон в карман и открыл наконец дверь.
К вечеру пылкое мое воодушевление несколько утихло, улеглось. Однако что-то другое неожиданно для меня обнаружилось в осадке. Какое-то крохотное беспокойство — неприятным заусенцем на границе сознания. Что же здесь не так?.. Я сделал все, что мог, да? да! поручение исполнено? исполнено! и вряд ли я мог сделать дело лучше. Прокрутим все обратно, и медленно снова вперед. Я уверен в своем ответе, все сделано правильно, каждый шаг. И все-таки... Что же не так сейчас? Когда во мне звякнул, тренькнул первый звоночек сомнения? Обратно: Фарида, круг земной, Василиска, «Дикси», метро, «Электросила», переход, Воловских... Фарида? Похоже, тогда — сообщение от нее днем. Я взял смартфон и взглянул опять на ее выборгское селфи: солнце, побережье за ней, ряд валунов, птицы в воздухе. И что-то было такое же, где-то здесь, в сегодняшнем дне, да... вот оно где — одна из фотографий на «Кольте»!
Я вернулся к ноутбуку, открыл историю браузера. Не то, не то, нет. А, вот это фото: берег моря, тяжелое, свинцовое небо, две чайки (нет, три: еще одна маленькая точка чуть правее), повисшие в середине кадра на фоне низких облаков; ветер и волны, песок и немного травы, старенькая, видавшая виды «Лада»; у самой воды — молодая пара, спинами друг к другу, с опущенными головами; врезающийся в линию горизонта лесистый мыс вдалеке, и сосны его выше низких туч... Отменный кадр, и композиция удачная. Но что же именно в нем коснулось меня?
Я почувствовал, что надо отступить на шаг и осмотреться вокруг. Когда-то давно, едва ли не в юности, вычитанный, этот приемчик часто помогал мне раньше, если проблема, в которую уперся лбом, казалась неразрешимой. Надо было переключиться, отвлечься, отпустить, и тогда в монолитной и непреодолимой стене вопросов перед глазами вдруг обнаруживалась сама собой неразличимая прежде лазейка. Я взял ноутбук и пошел на кухню, заварил чаю.
Вернулся в комнату за телефоном, еще раз взглянул на фото, которое прислала Фарида. Что же, что же там такое? Дело не в ней, хотя, ох, и лукавый взгляд ее, конечно... Когда она, интересно, возвращается?.. Написал ей.
«Знаешь, я, похоже, пельменей-то разлюбил...»
Она получила и прочитала сообщение тут же, будто сидела со своим розовым айфоном в руках в одноместном номере выборгской «Дружбы» и ждала записочки от меня. Ответила коротко, по обыкновению избегая знаков препинания и прописных (ладно, пожалуй, редактор книжного издательства может с легкой совестью себе такое позволить, ну, в частной переписке).
«почему»
«Подумал о них сейчас как-то... с нежностью, но без страсти».
«а обо мне»
«О тебе разве забудешь, рыбонька!»
«рыбка ахаха скорее птичка сейчас типа чайки»
«они гвалт такой дикий устроили за окнами а я почитать устроилась»
«что делаешь»
Чайка, я улыбнулся. С Ниной Заречной у Фариды общего ровным счетом ничего. Но... Вот. Точно, в этом и было дело! Я прокрутил чат наверх, к ее сегодняшнему селфи, взглянул на экран ноутбука.
«Проверяю работы», — быстро написал я Фариде и выключил телефон.
Так я нашел саднящий заусенец моего сомнения — он оказался в чайках, то есть не важно даже, что это были именно чайки, важно, что — в птицах. Застывших в полете птицах на обеих фотографиях. Птицы не висят в воздухе неподвижно, они могут делать в воздухе этом своем что крыльям угодно: взлетать, садиться, лететь, планировать, кружить, — но неспособны остановиться ни на мгновение, такова природа полета. Что же дальше, дальше, что же, думал я. Обе фотографии (словно замершие по резкому окрику «хальт!») оказались не «мир», а «картина мира», в которой нет главного признака жизни — течения времени, изменения. Как же там?.. Движенье — жизнь, сказал мудрец брадатый. Слепок, модель, имитация — вот чем были обе странным образом совпавшие фотографии. Ложь.
Но не такой ли подвешенной в воздухе птицей оказался и мой Леша Андреев? Пытаясь создать тебя заново, мой ученик, погружаясь день за днем из своего сентября в последние дни твои — на тридцатидневную, уже немеющую глубину, не получил ли я на выходе нашего со стариком утреннего разговора — набитое паклей и ватой чучело? Впрочем, нет, отчасти, думаю, я не ошибся: пароль должен быть верным. Не позвонить ли Воловских, метнулась вдруг мысль, но тут же вернулась обратно. Нет, поручение я исполнил, верно, но не осталось ли чего за пределами этого поручения, так же, как за пределами фотоснимка? Я не дотянулся до дна, покачиваясь на поверхности времени, мой Алеша всегда оставался одним и тем же, то, что казалось личностью, оказывалось вырезкой, аппликацией, всегда существовало в одном и том же воображенном мной «сейчас», оставаясь всего лишь моделью, видимостью, чучелом. Я не дотянулся до чего-то главного — до того дня, места, слова, где мог бы понять его жизнь, в которой он был тем же и другим в каждом из своих дней.
Однако чтобы понять, мне необходимо — что? — вспомнить. Не просто услышать, не только узнать, но прежде самому пережить «его» собой. Как в волшебной сказке: разрозненные фрагменты склеить ледяной и мертвой водой памяти, чтобы омыть теперь уже полностью остывшее, но еще избежавшее тления, еще не исчезнувшее тело прошлого — живой водой воображения. То-то и оно: чтобы я понял — «он» во мне должен вспомнить сам.
Что же дальше, Алеша, должен ли я опять возвращаться в август? Откуда мне время-то взять: доклад, статья, и Нижний, кстати, этот, будь неладен, и Зайцев, пора ведь как-то все упорядочить. И у кого мне искать тебя — у нашей ли Елены? Чувствую я, где-то она приврамши, ох, рыжая. Или у Гусевой — как она тогда сказала, «обычный мальчик», «ничего особенного не помню»? Отец. Так мне не хочется снова видеть твоего старика. Я ведь уже снял было тебя, как маскарадный костюм, и оставил в его полутемной прихожей, да не все так просто в наших играх. Играх ли? Девочка еще та смоленская... «Мы же говорили». Сдалось ли мне все это беспокойство? Пустые хлопоты без четверти десять, когда команды уже вышли на поле «Камп Ноу» и звучит гимн Лиги чемпионов.
Я включил звук в трансляции и открыл припасенный загодя «Мартель».
Дурное дело
«Какое сделал я дурное дело», — бубнил себе под нос Белкин, бегая по квартире в ожидании Елены и напрочь позабыв о футболе, коньяке и пельменях. Философ сам не знал, кого он имел в виду, цитируя давно, казалось бы, забытое стихотворение — то ли Воловских, замыслившего все это, то ли всех прочих, так или иначе поддержавших его, то ли себя, против воли обнаружившего странный заговор и расстроившего планы его участников. А может, и самого Алексея, изначально заварившего кашу, которую нынче непонятно чем посолить.
Мысль тряхнула его чуть ли не со стартовым свистком. Несколько секунд он посидел, чувствуя, как в глазах буквально темнеет от ужаса очередной догадки, а потом кинулся к телефону.
— Привет, прости, что отвлекаю, но сейчас крайне необходимо, чтобы ты приехала ко мне, — протараторил Белкин без паузы, едва услышав ее «Борь, привет».
— Но я чуть занята, — удивилась Елена.
Белкину показалось, что совсем рядом с ее мобильным отчетливо дышал кто-то явно мужского пола.
— Ничего, отложи свои дела, пожалуйста.
— А ты сам не можешь ко мне приехать?
— Тот случай, когда нет.
Белкин самым четким образом понимал, что не надо ему ехать к Елене, на ее территорию. Елена — тетка умная, она может сразу догадаться, что дело швах, и начать провоцировать, чтобы отвлечь его. К примеру, попробует соблазнить его. Пойдет на кухню за чаем, а вернется голая. Наверняка. У себя-то можно. А Белкин может и не выдержать, и уж после такого Елена точно ничего не расскажет. А у себя дома он по крайней мере попробует держать ситуацию под контролем и не допустить недопустимого. Хотя тут она тоже попытается. Нет сомнений.
— А завтра?
— Сегодня, Елена.
— Я не уверена, что получится.
— Зато я уверен, что надо.
— Но зачем? Поведай, старче, и тогда я, может, приеду.
Пожалуй, она права, решил Белкин.
— Я бы хотел с твоей помощью постичь, почему ты мне по некоему вопросу сказала неправду.
— Ну-у... Думаешь, я что-то поняла?
— Думаю, ты понимаешь, что надо ехать. За такси могу заплатить.
— Ладно. Приеду.
Конечно, решил Белкин, завершив разговор, она догадалась — уж больно в непривычной манере он разговаривал. Раньше лебезил, на словах ручки-ножки целовал, а теперь так обрубил: приезжай, мол, и все. Надо, надо, надо было поделикатнее. Хотя на самом деле нет. Так хорошо. Именно так. Пусть нервничает.
Белкин сам обманул не одного и не двух человек в своей жизни, но кое-что для него оставалось священным: в отношении умерших он не терпел ни лжи, ни лицемерия, ни мистификаций. Единственное, полагал философ, чего заслуживают все без исключения покойные, — честность и искренность. В крайнем случае можно в чей-то адрес промолчать. А Елена оказалась способной на такую неприятную штуку, как долгоиграющий обман, к тому же — касающийся Алексея, ее пропавшего, вероятно, погибшего мужа, пускай и бывшего.
«Буду через 5 минут, спустись вниз, заплати за такси», — возникло на экране телефона.
Кстати, а как начать разговор? Об этом он еще не успел подумать. Спросить что-то будничное? Или мягко перейти сразу к делу? А может, резко перейти, включить прессинг, так сказать? Как говорят комментаторы: ошеломить стартовым натиском, забить быстрый гол.
И уже после того, как он сунул водителю деньги, дождался сдачи, открыл перед Еленой дверь и подал ей руку, чтобы она вышла, его осенило. Надо вообще побольше молчать. Пусть она говорит. Сама. А он будет только реагировать на ее слова.
Впрочем, первым открыл рот он. Они поднялись в его квартиру, разулись, после чего Белкин предложил:
— Хочешь пить? Есть?
Елена качнула головой. Картинно прошествовала в большую комнату, села у телевизора, уставилась в него, ничего не видя и не слыша.
— Что ты хочешь узнать? — спросила она в итоге.
Хитрая, подумал Белкин. Но я еще хитрее. Соперник известен, стиль игры давно изучен.
— Ты мне как минимум один раз соврала. А может, гораздо больше. Почему?
— В каком вопросе я соврала?
— Ты мне сказала, что с неким человеком некую тему не затрагивала, хотя ты обсуждала, и, я думаю, неоднократно. Почему ты это скрыла, когда я задал тот вопрос?
— «Некий человек», «некую тему». Думаешь, я понимаю, что ты имеешь в виду?
— Думаю, да.
— Нет.
— Елена, дверь не заперта, ты можешь уйти. Но меня твои отговорки не устраивают.
Она даже не шелохнулась, чтобы подняться. Верную тактику выбрал, обрадовался Белкин. Так сказать, контролирую ход поединка.
— Боря, ты очень жестоко со мной разговариваешь. Разве я заслужила?
— Лена, не дави на жалость. Сюсюканья закончились.
— Слушай, ну помоги же мне!!! — вдруг закричала она.
— Хорошо. Карты на стол. Исчезновение твоего мужа, Алексея Андреева.
— Что?
— Вы мне врали. Все. И папаша его, и ты, и, я думаю, много кто еще. В этом ты можешь меня не разубеждать, — поспешно добавил философ, видя, с какой готовностью Елена вскинула голову для возражения. — То, что все — ложь, он сам сознался. Но дальше говорить не стал. Поэтому передо мной стоит задача понять, для чего ты меня обманула. И что ты на самом деле знаешь.
— Нереально все, — зло бросила Елена.
— Да. Полный кошмар, — поддержал ее Белкин с издевкой в голосе.
— Самое обидное — то, что я действительно ни при чем, хотя теперь ты вряд ли мне поверишь, — выдавила из себя Елена.
— Почему же, если ты мне просто расскажешь, как все было, поверю. «Не докажете, а просто скажете», — процитировал он.
— Мы с Лешкой действительно не общались. Да и вообще: я правда ничего не знаю. Мне позвонил Владимир Ефремович и рассказал, что Лешка пропал. И какие-то детали выдал. Думаю, ровно те же, что и тебе. Отпуск, купались, потом он не вышел к завтраку, пустой номер, маска...
— А дальше?
— Ну и все! Борь, честно.
— Про ноутбук говорил?
— Нет. От тебя только узнала.
— Но зачем ты мне наврала? Ты же сказала, что он тебе не звонил. Деликатный, мол. Он сам попросил, что ли?
— Нет. Он даже не говорил, что кто-то занимается этим делом помимо полиции. Думаю, что он мне позвонил еще до вашей встречи. А потом я испугалась до ужаса, когда поняла, что замешан именно ты. Какое дикое совпадение!
— Поэтому ты так зарыдала?
— Да. Только поэтому. По совести говоря, умер Лешка, и хрен бы с ним. Но то, как мы с тобой оказались связаны, меня просто убило.
— Елена, почему ты меня обманула? В пятый раз спрашиваю. Я же прямо тебя спросил, общалась ли ты с Воловских. Отвечай.
— Да говорю же! Забоялась. Веет от всей этой истории чертовщиной какой-то.
— И ты больше ничего не знаешь?
— Ничего.
Ну что же, не исключено, что сейчас Елена честна. И даже если и так, ясности не прибавилось. Что ему, в сущности, с того факта, что она испугалась?
— Хорошо. Допустим. Но я по-прежнему мало что понимаю. Ты можешь прояснить свою точку зрения? Что с ним случилось? С Алексеем?
Белкин ожидал новой длительной паузы, но Елена заговорила тут же.
— Могу. Потому что я думаю об этом постоянно.
Философ сделал приглашающий жест рукой.
— Самое очевидное — принять на веру то, что лежит на поверхности. Захотел искупаться, что-то пошло не так, утонул. Но мне не кажется, что все произошло именно так. Понимаешь... Лешка всю жизнь был каким-то не таким. Не в том смысле, что каким-то особенным. Наоборот. Слишком пресным и обычным. И ведь все у него могло повернуться иначе: и мозги, и руки, и внешность. Но не срасталось. А самое смешное — он сам все хорошо понимал. Ну, по крайней мере мне так казалось. Он несколько раз какие-то фразочки позволял себе, что, мол, человек без свойств и все такое. Ну и...
Она встала и вытянулась, хрустнув костями. Белкин поморщился.
— Мне кажется, короче, что Алеша наш просто-напросто решил начать новую жизнь. Вот таким идиотским и довольно безжалостным способом.
— Без документов? Воловских говорил, что паспорт остался.
— Да, иначе какая же новая жизнь?
— И без денег...
— Ну, это мы считаем, что без денег. — Елена сделала акцент на слове «мы».
— Довольно сомнительное решение — начинать новую жизнь буквально с чистого листа, находясь посреди пустыни. Не проще ли было дождаться возвращения в Ленинград?
— Конечно, проще. Но зачем ему проще?
Тут Белкин не нашелся, что ответить.
— Елена, твоя версия предельно приземленна, но и совершенно невероятна.
— Я и не настаиваю на своей правоте. Ты предложил сказать — я сказала.
— Но я не понял главного: зачем? Зачем ему устраивать такой спектакль в Марса Аламе?
— На мой взгляд, тут мог сработать принцип «чем хуже, тем лучше». Человек объективно ничего в жизни не добился. Мамы нет. С отцом все сложно. Меня потерял. Ребенка тоже. Работы нет. Увлечений нет. Любовницы, думаю, тоже нет. Да вообще ничего нет. Что составляло его жизнь? Только физическое существование. Извините за выражение, растительная жизнь Алексея Андреева. С другой стороны, осознание. Понимание всего этого не позволяло ему спокойно жить. Он наверняка решил — не мог не решить! — что-то поменять. Просто найти работу и новую женщину он не мог — такая простая схема почему-то в его случае не срабатывала. Но и банально покончить с собой он не мог. Для самоубийства он был слишком трусливым, можешь поверить, мы не один раз обсуждали суицид и все прочее. Конечно, он мог дойти до ручки и все-таки решиться. Но не думаю. Раз уж его наши с ним общие беды не сломили... Но мне еще кажется, что в его желании начать новую жизнь нет ничего мистического. Он просто хотел быть обычным человеком, в чем его никто не поддерживал, меня включая, увы. Поэтому я вполне допускаю, что он сейчас где-то пытается найти себя заново, совсем в других обстоятельствах. Может, он накопил денег и тайком сделал себе новый паспорт. И уехал куда-то, где его не найдут.
— А была ли его жизнь настолько пустой, как ты говоришь? Это все-таки вопрос дискуссионный. Чтобы такое об Алексее утверждать, надо его понимать.
— Но как возможно понимание?
Белкин против воли улыбнулся.
— Ты задала главный вопрос герменевтики, хотя и не осознаешь этого.
— Я даже не помню, что такое герменевтика, хотя знала.
— Расскажи, что за разговоры о самоубийстве.
— О самоубийстве? Я в подробностях не помню, конечно... Но однажды мы с ним оказались летом на даче у друзей в Репино.
тринадцатое
Конечно же, не Репино, а Комарово — но какая разница?
Да и не к друзьям мы приехали, а к каким-то дальним родственникам Леши, но и это не имело особого значения. Я врала беспрестанно, подчас не то что не понимая цели — не осознавая, что вру.
Никто из нас в такую жару тащиться в Комарово особо не хотел, да и настроения не было, но мужу загорелось продемонстрировать мне свою настойчивость: дескать, пойми, надо исполнить долг, у Полины Аркадьевны день рождения, к тому же — накормят, готовить не надо. Я могла бы повозражать и в итоге остаться дома, но не стала. Взяла лишь клятву с Лешки, что нам дадут отдельную комнату и что душ в доме точно есть. Часа полтора я мужественно посидела с родственниками (большинство из которых Леша сам видел от силы третий раз в жизни), после чего постояла под холодной водой в душе, да и залегла в голом виде на кровать, открыв окна и задернув занавеску. Муж с независимым видом некоторое время ходил от натужного застолья с участием теток-дядьев к легкому и каким-то чудом остававшемуся прохладным раю с моим участием, а потом проворчал смешное проклятье в адрес хозяев дома и прочих гостей, залез ко мне под простыню и безотлагательно принялся инспектировать владения.
Минут пятнадцать спустя мы обмахивались всем, что только попадалось под руку, — книгами, газетами, полотенцами, одеждой — не только охлаждаясь, но и с большим удовольствием разговаривая во весь голос. Мы, голые, стояли у открытого окна, скрытые старой деревенской занавеской.
— Леш, тебе же самому не нужно было сюда ехать, — полуспросила я.
Он благодушно и самодовольно улыбнулся:
— Ну... не самый необходимый визит, факт.
— Тогда ради чего мы тут? Ведь даже твоего папы нет.
— Да что мне папа...
Я знала, что он не лукавил: при всей бесконфликтности их отношений, мнение отца для него никогда особого значения не имело и просьбы его выполнялись только тогда, когда Леша хотел.
— Я не поверю, что тебе важна Полина Аркадьевна.
— Она всегда меня очень любила. И сейчас любит.
— Почему мы не навестили ее дома?
— Ей дома очень некомфортно. После всего произошедшего...
Я отчаянно напрягла мозг, пытаясь вспомнить, что за «произошедшее», — но безуспешно.
— Леш, а когда ты мне об этом рассказывал? — осторожно спросила я.
— Мне кажется, никогда, — простодушно ответил он.
— И думаешь, что мне все очевидно?
— Не сердись... У нее сын покончил с собой, Макс. Судя по всему, таблеток наглотался. Нашли в его комнате, он уже не дышал.
— Да, это действительно плохо. А из-за чего?
— Депрессивный тип был сам по себе. Подробностей папа не рассказывал. Но никто из нас особо не удивился, честно говоря.
— А кто он? Кем работал?
— Да никем. Постоянно менял, не мог приткнуться нормально.
— То есть ничего после себя не оставил?
— Вообще ничего.
— Леш, а ты мог бы покончить с собой?
Он чуть не поперхнулся.
— Я не собираюсь вообще-то!
— И не думал?
— Никогда.
— Ну и здорово.
Мы переключились на другую тему, потом спустились вниз, еще немного посидели с родственниками — но все вокруг обсуждали только Олимпиаду и войну с Грузией, а нас ни то, ни другое совершенно не интересовало. Зато ночью, когда легли, Леша тихо-тихо, но не шепотом заговорил.
— Я соврал. О самоубийстве я думаю нередко, а о смерти в целом — так и вообще постоянно.
— И что думаешь?
— Ужасно боюсь. Не хочу. Мне дико думать, что я могу умереть. Мне так нравится жить...
Слова его звучали наивно и смешно, но очень искренне.
— Я боюсь болезней, я боюсь самолетов, боюсь глубины и высоты, всего боюсь. Но думаю и о болезнях, и о высоте, а еще я воображаю, как я вдруг вешаюсь — и как мне начинает не хватать воздуха, или как я глотаю таблетки, или как прыгаю с крыши. Вот думаю — и все тут. Мне иногда кажется, что это хорошее решение, потому что слишком много не получается, но неужели я настолько слаб, что готов сдаться? Нет. И все-таки продолжаю думать. Меня как будто кто-то силой возвращает туда. В мысли о моей смерти. Но не только о моей. Я постоянно думаю, каково мне придется без отца. И с каким-то странным удовольствием воображаю, что стану делать, если вдруг останусь без тебя. Не в смысле развода...
— Мне не очень приятно такое слышать, — заметила я.
— Да, я догадываюсь. Прости меня. Но я рассказываю так, как есть.
— А у твоих мыслей есть какой-то логический результат? Ты придумал, что будешь делать без меня? Или без отца?
— Нет. Я холодею от ужаса и застреваю в самом-самом начале.
Дальше мы молчали. Минут через десять он, вероятно, уже проваливаясь в сон, еле слышно пробормотал:
— Но я все равно не смогу...
— Что ты не сможешь, Лешенька? — безмятежно спросила я.
— Ну, это... — ответил он и окончательно заснул.
Неожиданно разговор получил продолжение через несколько месяцев, когда мы с ним все-таки навестили Полину Аркадьевну в городе. Повода никакого не находилось — просто заехали по ее настоятельной просьбе. Посидели, поговорили, старательно избегая скользких тем, съели предложенный обед. Можно было бы и уходить, но тут Алексею позвонили. Он вышел на кухню, бросив, что разговор минут на десять, и тогда Полина Аркадьевна шепотом заговорила:
— Лена, вы ничего не спрашиваете о Максимке, я очень ценю вашу деликатность, но все-таки я бы хотела, чтобы вы кое-что узнали.
— Слушаю, — чуть удивилась я.
— Они с Лешкой очень похожи. Не внешне, а внутренне. Недотепы. Ты береги его, пожалуйста. Неровен час...
В моей голове мгновенно всплыл уже полузабытый разговор на ее даче.
— Полина Аркадьевна, если можно, уточните, чтобы я вдруг не поняла вас как-то не так.
— Да что тут уточнять... Чтобы Лешка на себя руки не наложил.
— Вы знаете, мы с ним говорили об этом. Он сказал, что не способен на самоубийство.
Полина Аркадьевна, интеллигентная билетерша из МДТ, резко ударила ладонью по столу. Я вздрогнула.
— А вы что думаете, Максим меня предупреждал? Или хоть кого-нибудь? По всем формальным критериям он собирался жить. Но через несколько часов... — Полина всхлипнула.
— Не надо, не надо продолжать, я все понимаю.
Немного посидели без слов.
— Кто говорит о смерти, тот не умирает, — спокойно резюмировала Полина. — А кто не говорит... Всякое может быть.
Птицы
Проснулся он от того, что какой-то случайный шорох потревожил во сне стаю птиц и те обрушились с высоких ветвей в воздух над самой его головой — огромным, слепяще-черным, крылатым облаком. Кольнуло сердце. Он вздрогнул, сорвался с ниточки, и его выбросило на поверхность. Там, на поверхности, Белкин перевернулся на другой бок, потянулся к телефону взглянуть на время — без четверти час.
Лег на спину, закрыл глаза и припомнил последнюю встречу с Еленой, ночной их разговор. Версия, которую она предложила, хоть и выглядела какой-то очень романтической, но отчего-то — вот отчего? — навскидку казалась убедительной. Может быть, в силу своей полной непредсказуемости, ненормальности, в силу того, что в привычной человеческой жизни, с людьми из жизни так не бывает, только в кино и в романах, — а он как раз и чувствовал себя то ли читателем, то ли зрителем, то ли персонажем, то ли творцом всей этой запутанной истории. Однако возможно ли в принципе как-то версию Елены верифицировать? Он потянулся было опять за телефоном, чтобы спросить у гугла «как сделать паспорт на другую фамилию» или «где купить новый паспорт питер»... но вовремя вспомнил, что в нынешние времена поисковые запросы могут отслеживаться. И решил держаться от греха подальше, да и вряд ли оно чем-то помогло бы, если серьезно.
«Все-таки надо ехать», — опять пошевелились в голове последние слова сна, что пролетели перед птицами. Все-таки надо. Это авантюра, конечно, и какая, а Белкин не был авантюристом, напротив, старался по возможности не ввязываться и не впутываться. Но. Закравшаяся в голову еще позавчера мысль за день крепко обжилась там, чувствовала себя все более уверенно, перевезла вещи и, похоже, съезжать уже никуда не собиралась. Он сел в кровати, спустил ноги, ступни коснулись прохлады пола. Посидел так минуту, будто прислушиваясь к темноте. Потом дошел до ноутбука и открыл расписание поездов.
Так, допустим. Что с дорогой у нас получается? Без двадцати семь надо быть на вокзале. На «Сапсане» четыре часа, потом с Ленинградского — на Белорусский, оттуда — там будет где-то час-полтора на перекусить поблизости, хорошо, — оттуда на «Ласточке», плюс четыре часа. В половине шестого в Смоленске. Вечер, ночь в гостинице, надо будет посмотреть, подобрать что-нибудь приличное. Потом с утра полдня на все про все, брестский поезд обратно в Москву, и девятичасовой «Сапсан» — домой. График безумный, что тут скажешь. Но все-таки надо. Назвался груздем — полезай в кузов. Взялся за гуж, опять же, как Аронов когда-то говорил. Хоть горшком назови, только в печь не ставь... Ладно, а то язык сейчас далеко заведет. Если утром в субботу, послезавтра, выезжать — на понедельник в ночь дома. Ну хоть будет что вспомнить.
Дело за малым — оставалось завтра договориться с Верой. (Сегодня уже — опять эти ночные недоразумения с хронологией; сегодня, но после сна, то есть — завтра.) Чтобы она вообще пожелала с ним встретиться. «Я ничего об этом не помню», — так она написала? Вот и ответит опять что-нибудь такое: «Мне нечего вам сказать, простите. Встречаться просто совершенно ни к чему». Белкин открыл Фейсбук, чтобы снова пролистать ее страницу в поисках хоть какого-то ключика и перечитать недавнюю переписку (впрочем, там и перечитывать особенно было нечего), когда нежданно-негаданно увидел зеленый кружок онлайна рядом с ее именем в списке друзей. Второй час, надо спешить!
«Здравствуйте, Вера, доброй ночи! Не спите?» — быстро и решительно написал Белкин.
«Добрая ночь! Уже ложусь, решила немного ленту покрутить перед сном».
«Тогда не засыпайте пока, пожалуйста! У меня есть несколько слов к вам, но мне понадобится некоторое время, чтобы их упорядочить», — ему надо было как-то удержать ее и ее внимание, пока он напишет о своих планах.
«Хорошо, жду», — ответила она со смайлом.
«Не затягивайте только». И три смайлика.
Белкин на секунду задумался — придется где-то сейчас лукавить, обходить, только бы не спугнуть нечаянную удачу — и быстро застучал пальцами по клавиатуре.
«Понимаете, Вера, я в прошлый раз, может быть, несколько сумбурно все изложил... про Алексея. Я уважаю частную жизнь, ее границы, и не хотел бы показаться вам бесцеремонным со своими расспросами. Вероятно, у вас были какие-то отношения — приятельские, дружеские, иные какие-то, — но я не хочу в это особенно вдаваться. Мне важны не отношения ваши, мне важен он сам. Я преподаю в университете, и Алеша когда-то писал у меня диплом; может быть, он рассказывал вам, упоминал, может, обо мне; мы общались и потом некоторое время... и после того, как он пропал (да, я говорил вам, что он погиб, но точно не установлено, он просто исчез, возможно, произошел несчастный случай или что-то другое), пропал ночью, на отдыхе в Египте, отец его попросил меня поучаствовать в... не в расследовании, конечно, — скорее в изучении его биографии. И вот я пытаюсь понять его — личность его, его жизнь, память, с надеждой, что такое понимание может чему-нибудь помочь. Мной движет отнюдь не любопытство, на любопытство я бы времени тратить не стал. И мне нужна ваша помощь, Вера, все, чем вы сможете помочь, любая информация. Разумеется, исключительно конфиденциально».
Отправил; выдохнул и глубоко вдохнул. Итак — самое важное.
«По стечению обстоятельств буду в Смоленске в ближайшее время по служебным делам. Если бы мы могли встретиться и поговорить о том, о чем я вам чуть выше написал, возможно... возможно, вы оказали бы мне и отцу Алеши неоценимую услугу?..»
Вера молчала минуту-другую. Белкин не отрываясь смотрел на экран — двадцать минут второго — и поглаживал подушечками пальцев кнопки с подсвеченными буквами. Что еще можно было добавить? Наконец от нее пришло сообщение. Три слова.
«Он исчез ночью?»
«Да, это случилось ночью. Он ушел из отеля к морю и не вернулся...»
Ну же!..
«Когда вы приезжаете?»
Двадцать минут, половина второго.
«Сегодня вечером», — написал он.
Пятичасовой будильник вспорол раскинутый над его сознанием темный покров бесчувствия от края до края, и реальность хлынула в этот надрез, окатив Белкина ледяным ужасом. Время?! Сколько он спал — часа три, меньше? Вот поэтому он всегда ставил на сигнал будильника какую-нибудь мелодию из стандартных — чтобы не возненавидеть действительно хорошие и любимые. Не разлепивши век и не приходя в сознание, Белкин пробрел на кухню, приготовил двойной кофе, открыл ноутбук, еще раз проверив свою ночную бурную деятельность после переписки с Верой: электронные билеты на «Сапсан» и «Ласточку» он взял, номер в мини-отеле на сегодняшнюю ночь забронировал. Конечно, и обратными билетами тоже можно бы сразу озаботиться, но это ладно. Это ладно, пока о другом. «Зачем? зачем? зачем?» — дребезжал теперь беспощадный перфоратор внутри черепной коробки, когда он, умываясь и на скорую руку сбривая щетину, исследовал в зеркале лицо седеющего человека с отекшими и красными глазами. «Что ты делаешь?» — устало спрашивал человек Белкина, бесцеремонно уставившись, не отводя взгляда. «Зачем нам вообще все оно сдалось?» Однако необходимо было действовать — и спорые сборы на время отвлекли его от сомнений и тягостных раздумий.
Он подумал мельком о чемодане, но решил ограничиться доцентским своим портфелем. Смена белья, ноутбук, бумаги кое-какие, телефон. До такси оставалась еще четверть часа; механически закидывая в себя бутерброды, Белкин посмотрел прогноз погоды по Москве и по Смоленску — сильных ливней оракулы из Гидрометцентра не обещали, а привычной сентябрьской мороси он не боялся, так что зонтик можно и не брать, наверное. Проверил баланс сберкарты: Воловских — что бы там Белкин сгоряча ему ни наговорил — пунктуально и не скупясь исполнил свою часть уговора, на ближайшие месяц-два можно было о материальных вопросах не беспокоиться, да и внезапный вояж к Вере в этом смысле хоть и выглядел, конечно, определенной роскошью, но без перегибов. Что ж, кажется, все?.. Белкин сел на дорожку и прикрыл глаза как раз в ту секунду, когда Gett тренькнул в телефоне уведомлением, что такси подъезжает.
Он рассчитывал в «Сапсане» часок-другой вздремнуть, а в «Ласточке» посидеть за ноутбуком и хоть что-то полезное и несложное сделать для работы, например, заняться все-таки зайцевским отзывом. Вышло, однако, — как обыкновенно бывает, когда человек что-то рассчитывает и предполагает наперед, — ровно наоборот. В такси до вокзала Белкин еще дремал, но на улице промозглая прохлада утра, тайм-стресс и целеустремленность взбодрили его, и сон сошел на нет. Соседнее кресло за столиком оказалось свободным, напротив тоже сидел только один пассажир — бородатый юноша в наушниках Beats, всю дорогу не вылезавший из виртуального мира своего огромного айфона, — так что Белкин удобно пристроил ноутбук на столике, немного поерзал в кресле, ловя волну, и с минуты отправления до самой почти Москвы выстукивал на клавиатуре — по чести сказать, превозмогая то и дело возникающее где-то в глубинах совести желание разразиться, выжигать грозой карающей, рубить мечом обличения и развенчания зайцевские банальности и благоглупости, — все-таки выстукивал за абзацем абзац свои сдержанные, но позитивные в целом соображения по кандидатской младшего коллеги.
Наскоро перекусив у Белорусского вокзала, он решил, что, пожалуй, в «Ласточке» можно будет с зайцевским отзывом разделаться окончательно; две больших кружки доброго крепкого американо должны были, по его расчетам, помочь продержаться в сознании до ночи. Однако едва поезд тронулся, Белкин почувствовал, что отключается. Мягкие теплые волны одна за другой накатывали на него. Темное море звало к себе, и он едва успел хотя бы сообщить Вере, как они о том условились ночью. «Я приезжаю в половине шестого, — написал ей Белкин в мессенджере. — Остановлюсь на Большой Советской, 18/18. Часам к семи надеюсь быть в человеческом облике. Где вам удобно встретиться и во сколько?» Белкин понимал, что хорошо бы дождаться ее ответа, но ночь внутри звала его, накатывала все тяжелее и глубже, тянула к себе — туда, где, уже погружаясь в нее, он убрал телефон, застегнул портфель, обхватил его покрепче обеими руками, намотав ремень на запястье, и из мерного вагонного покачивания провалился вместе с креслом под свинцовые веки — в следующую набежавшую волну, где одна над пустым и безвидным морем ночным кружит долиннеева птица без рода и вида — крохотное пятнышко света. Наблюдатель видит ее со всех сторон, потому что сторон еще нет в этой шумящей и пронизанной ветром и крупными каплями тьме. Слово — увеличительное стекло — медленно подносят к развернутой перед глазами картине, и темнота, и птица — все приближается ко взгляду наблюдателя, разрастается в себе, охватывает все больше и больше, заполняя мироздание, и вот распахнутые крылья заслоняют все вокруг... удар огромного света! И за ним лишь пустая, густая тьма над водами морскими — птица прожигает насквозь сетчатку взгляда, спазм слепоты, и опять кружит в отдалении, видная вновь со всех сторон сразу. Она удаляется, сжимаясь в тонкую, острую искорку, и там, бесконечно далеко, на границе незрячего зрения наблюдателя, яркая точка опускается все ниже и ниже к воде, и видно, как из глубины поднимается — ей навстречу — другая. На мгновение они соприкасаются во вспышке на поверхности темного моря — и две искры взлетают оттуда во мглу, два сгустка живого пламени, огненных крылатых шара. Пустота вокруг и внутри покачивается из стороны в сторону, как утлое суденышко на мерных волнах, на медленной ряби, дошедшей сюда из дальнего птичьего далека, куда так маняще, так странно, так страшно ему обернуться, что Белкин открыл глаза и удивился мягкому дневному свету в вагоне. Руки и ноги затекли до бесчувствия и казались какими-то чужими, франкенштейновыми кусками, неудачно приставленными к его телу, ныла спина, он не сразу смог даже пошевелиться в кресле. Чтобы разглядеть стрелки наручных часов, пришлось выкручивать залитую свинцом шею. До Смоленска оставалось минут сорок. Кое-как наскоро расшевелившись, Белкин с некоторой тревогой достал из портфеля телефон, где, вопреки его смутному беспокойству, уже три часа ждало его внимания сообщение Веры. «Встретимся в семь в „Русском Дворе”. От вашей гостиницы две минуты по улице Ленина до сада Блонье. Кафе в самом центре парка, за фонтаном, там увидите. До встречи!»
К вокзалу Белкин хотел заказать такси. Но в шестом часу вечера в будний смоленский день дело это оказалось не самым простым, и он корил себя за то, что не озаботился бронированием машины заранее. Он стоял на выходе с платформы, спиной к бирюзовой громаде вокзала, время шло, крутился радар на экране приложения, но свободных машин у Gett для Белкина никак не находилось. Минута к минуте, до назначенного Верой времени оставалось лишь немногим больше часа. На вокзальной площади, конечно, наверняка можно было нанять бомбилу, но... Стоило такой мысли мелькнуть в голове, как рядом, будто соткавшись из сырого вечернего воздуха, возник неопределенный мужичок в ветровке и кепке. «Такси?» — бойко и доброжелательно поинтересовался он у Белкина.
— Спасибо, я не спешу, — чуть поколебавшись, ответил философ.
— Зря утраченное время. — Доброжелатель как-то по-выпьи вытянул шею, взглядом указывая на экран белкинского смартфона. — Тут без шансов. Куда ехать надо?
Белкин отчего-то смутился, как будто мужичок застукал его за предосудительным занятием или прихватил на вранье. Ну, что ж, может быть, в самом деле...
— На Советскую восемнадцать дробь восемнадцать сколько будет стоить? Большую Советскую, — на всякий случай уточнил он, подозревая, что в смоленской топонимике могут быть свои тонкости.
— Пятьсот.
— Спасибо, я не спешу. — Очень уверенно повторил Белкин.
Мужичок пожал плечами, хозяин, дескать, барин, и пошел в сторону. Но как только Белкин переключился на мессенджер и собрался уже печатать сообщение Вере о том, что он немного застрял на вокзале и, возможно (возможно!..), слегка опоздает, краем глаза он заметил, что кепка возвращается. «Ну, сколько?» — спросил он у Белкина. Тот прикинул, что прибывшие на «Ласточке», похоже, практически все рассосались и разъехались и что справедливой оплатой будет, наверное, нечто среднее между ценой Gett (которого нет) и желаниями кепки (который есть), то есть, округляя, чтобы не возиться с мелочью, — где-то триста. Мужичок согласился моментально, и Белкин подумал, что можно было бы, видимо, начать и с двухсот... впрочем, ладно, время поджимало крепко. Доброжелатель проводил его к автостоянке на привокзальной площади, где указал жестом на грязно-зеленую весьма преклонного возраста «четверку». За рулем этого лимузина сидел и курил бородатый крупный старик, которому провожатый негромко бросил «триста» в полуопущенное водительское стекло. Пассажирскую дверь Белкину удалось захлопнуть лишь с третьего раза, для чего от него потребовалось дважды переступать свой порог решительности, и, когда он называл невозмутимому старику адрес, внутренний голос его взмолился всем богам, силам, архангелам, ангелам и святым угодникам, чтобы только добраться ему из пункта А в пункт Б живым и невредимым.
И то ли высшие силы соблаговолили наконец обратить на белкинскую сегодняшнюю судьбу свое могущественное внимание, то ли старик водитель неприметно обернулся волшебником — но доехали они сверхъестественно быстро: пробок на пути не оказалось, а каждый светофор встречал их приближение приветливым зеленым сигналом. Не прошло десяти минут, как «четверка» свернула с главной улицы внутрь длинного извилистого двора, ловко пробравшись по которому остановилась в последнем тупичке. Белкин быстро расплатился с таксистом, коротко поблагодарил и вышел из машины. Впрочем, сразу остановился, крутя головой и не обнаруживая ни вывески, ни указателя, куда ему здесь идти к своим апартаментам. Он было полез в карман за телефоном, чтобы связаться с администратором, когда старик постучал изнутри по лобовому стеклу и кивком указал влево, на дверь парадного в углу дома. Белкин сделал несколько шагов в ту сторону и, приглядевшись, действительно обнаружил у двери неприметную и неразборчивую с нескольких шагов табличку и панель домофона. Он обернулся поблагодарить другой раз своего немногословного (а может статься, что и вообще немого, подумалось вдруг ему) возницу, но «четверка» уже развернулась и, покряхтывая, отъезжала вверх по двору.
В мини-отеле Белкин пробыл недолго: взбежал по узкой лестнице наверх, быстро заполнил у администратора анкету, получил ключ от своего шестого номера, взбежал по еще одной лестнице на третий этаж, прямо посреди на удивление приятного и просторного номера-студии сбросил с себя все, кроме усталости от этого бесконечного дня, принял душ, поменял белье на свежее, надел поверх усталости свой видавший виды скромный гардероб, проверил смартфон на предмет новых сообщений (нет), перечитал полученную от Веры инструкцию, прихватил портфельчик, закрыл и проверил дверь, пытливо посмотрелся в зеркало в коридоре, мельком глянул на часы, пробегая ресепшн на втором этаже, поинтересовался, как ему выйти на улицу Ленина (из двора в арку и за угол налево) и сколько отсюда до сада Блонье (три минуты быстрым шагом, порядок).
Без тринадцати минут семь Белкин стоял у кафе «Русский Двор», под ветвями высоких деревьев, на Блонье, за фонтаном.
четырнадцатое
Что в дневнике действительно важно — так это даже не (первой приходящая на ум) возможность внутри себя на себя оглянуться. Действительно прекрасна другая открывающаяся с помощью собственных заметок-по-следу перспектива — осмотреться. Ты стоишь в самом центре воспоминания, сего ли дня или дня вчерашнего, и можешь не спеша осматривать происходящее. Можешь подобрать бережно, повертеть и пристально разглядеть любой, самый мельчайший кусочек рассыпанного пазла. Все замерло вокруг ухваченной минуты — мыслимой оси мироздания — машины, прохожие, редкие капли начинающегося дождя, струи фонтана, листва на высоких деревьях с первыми желтыми прядями, птицы в небе, все замерло — смотри внимательно.
Просыпался сегодня с трудом, сказались, верно, и куцая, рваная прошлая ночь, и головорот бесконечного за нею дня. Сон вокруг был прозрачным озером времени, я шел по нему на старой весельной лодчонке, и с каждым гребком озерная вода становилась все холоднее, медленнее, тягучее, вот она уже леденеет прямо под веслами, и мне приходится двигаться резкими рывками, ломая, разбивая прозрачную корочку. Каждый следующий размах и гребок потребуют все больших сил и глубины разрывающегося дыхания, что застывает над поверхностью воды ватным туманом. Туман этот вот-вот скроет, сотрет до неразличимости призрачный берег, от которого я пытался пробиться наружу и откуда долетает ко мне далекий колокольный звон будильника — вернись!.. Дом-от-дома-к-дому-в-дом!..
И пришлось возвращаться.
Умывшись и приняв душ, я наскоро позавтракал скудными вчерашними припасами. Кофемашины здесь, увы, не было, так что пришлось довольствоваться двойным растворимым «Carte Noire» — из предусмотрительно купленных вечор пакетиков. До брестского поезда на Москву оставалось еще порядочно, и я, по привычке развалившись на кровати, решил осмотреться во вчерашней встрече — тем способом, что изложен несколько выше.
У «Русского Двора», к своему удивлению, я очутился даже раньше назначенного Верой времени. «Я на месте», — написал ей в мессенджере. «Немного опоздаю, буду с вами через минут двадцать, — ответила она и добавила со смайлом, — держитесь там». На улице начинало накрапывать, и я решил, что «держаться» и ждать ее мне удобнее будет внутри. Кафе оказалось чем-то вроде русифицированного «Макдоналдса». Будний вечер и не самая благоприятная погода для прогулок, видимо, проредили число посетителей — и в зале, и у касс оказалось достаточно свободно. Я поглазел на меню, подумал, что успею и поужинать до появления моей таинственной смолянки, заказал борщ и стейк из семги, взял американо и направился по крутой узенькой лестнице на второй этаж. Весь интерьер кафе — стены, колонны, столики — был расписан в красно-желтом стиле лубочных картинок, эдакое нарочитое и выпяченное, размашистое «а-ля рюсс», такое умилительное и трогательное для иностранных сердец; в первые минуты аляпистое буйство спрессованного цвета резало глаз, но затем растревоженное чувство прекрасного успокаивалось и как-то в целом доброжелательно на все это дело поглядывало. К тому же сами картинки на стенах и столиках выглядели вполне мило: «добры молодцы», «красны девицы», «медведи с медом» — из того только, что я успел разглядеть, передвигаясь с подносом в дальний конец небольшого зала. Избранный мною столик украшали сидящие друг напротив друга на ветках в яблоневом саду «сладъкогласыя птици раискыя Сиринъ и Алконостъ», как поясняла трапезничающему надпись поверх рисунка.
За последние шесть часов в рот мой не упало и маковой крошки, так что я быстро сообщил Вере, что жду ее в верхнем зале, отложил телефон и набросился на борщ.
Вера пришла, когда я подъедал последние ложки первого. Увидев, как она, приметно хромая и держась крепко за перила, поднимается по лестнице, я почувствовал раздражающую досаду — черт меня дернул забраться сюда наверх!.. Саму ее между тем, кажется, неудобство это нисколько не разозлило: от лестницы она помахала мне рукой и двинулась к столику.
Я встал навстречу, отодвинул для нее стул, помог снять намокший плащик. Указал рукой на свой поднос:
— Я тут пока успел немного поесть. Как раз собирался спуститься за вторым, думаю, там уже приготовили. Вам взять что-нибудь?
— Ну, хоть какая-то, значит, нашлась польза в моем опоздании... — Она повесила на соседний стул свою большую сумку и аккуратно села напротив меня, чуть вытянув ногу. Вера была в темно-сером брючном костюме и белой блузке, без украшений, без колец. Сдержанный официальный стиль, дистанция. — Но все равно простите, что заставила ждать. И... спасибо, я, наверное, кофе только выпью. Возьмите мне капучино, больше ничего не надо.
У касс внизу по-прежнему было немноголюдно, вернулся я быстро. Взбираясь обратно (с кружкой ее капучино и по-ресторанному огромной тарелкой, на которой лежал не по-ресторанному большой кусок прожаренной семги c салатом), еще раз подумал, как же нехорошо, однако, получилось с этой лестницей. Стоило ли извиниться? — пожалуй, нет, решил я. Не будем акцентировать, ни к чему.
Когда я вернулся к столику, Вера разглядывала рисунок. Она не сидела в телефоне, что мне понравилось.
— Странно, что только две птички тут у них, — сказала она, обернувшись на мое приближение. — Да и написали, кажется, неправильно, насколько я свои студенческие дела по исторической грамматике помню.
— Почему странно? Я в славянской мифологии не силен.
— Ну, их вообще троица так-то, райских птиц. Гамаюн, Сирин, Алконост. К тому же Гамаюн — символ Смоленска. Вы герб города нигде не видели, не встречали?
Я придирчиво поворошил память и не припомнил. Кажется, нет, нигде. По крайней мере внимания не обратил, если где и было. Вера объяснила:
— Там, знаете, такой щит с изображением старинной пушки и сидящей на ней птицы Гамаюн. Некоторые полагают, кстати, что это возрождающийся из пепла Феникс, но официально все-таки Гамаюн. Во-о-от. Птица вещая радостей и горестей.
Помолчали. Вера сделала несколько глотков капучино, я — раздумывал, с одной стороны, о том, как бы мне деликатно заняться стейком, а с другой — что пора как-то приступать.
— Знаете, Вера, есть такой психологический приемчик, мне давно когда-то друг юности о нем поведал, и я, пожалуй, соглашусь, что он весьма эффективен... когда надо начинать непростой и долгий разговор с незнакомым человеком, а приступы к разговору этому не очень понятны и... — тут лучше либо броситься в него, как в омут, с разбегу, без всякой разминки и разогрева, либо наоборот, чтобы собеседник обвыкся, надо попросить его сначала просто рассказать что-нибудь о себе. Что угодно вообще, что в голову придет, для завязки. А я пока очень быстро разделаюсь с рыбкой, будучи глубоко внимательным слушателем, как вам такая идея?
Она усмехнулась.
— Вы вот когда упомянули это «что-нибудь», я вспомнила. Мой муж... бывший муж мой то есть, он со мной как-то в минуту поздней откровенности поделился, что самые сложные мгновения в его жизни со мной были, когда я внезапно говорила: «Расскажи мне что-нибудь». И вот тут начинался судорожный розыск по картотекам памяти и воображения — он так говорил, — что же именно «что-нибудь» рассказывать, о чем, как; такая, если и не паника, то суматоха какая-то внутренняя... словом, он потом, признался, начал даже уже заранее как-то к таким моим просьбам готовиться. То есть подбирать истории, домашние заготовки — для будущих своих экспромтов о «чем-нибудь».
Вера покрутила пальцами кружку, поправила волосы, подняла на меня глаза.
— И вот теперь, получается, и мне неожиданно приходится примерить эту шкуру... или руно, — она отпила маленький глоток кофе, — рассказчика «чего-нибудь». Такой внезапный бумеранг из беззаботной юности. Ну, хорошо, что ж, попробуем какое-то такое резюме представить... Родилась я и всю свою жизнь по сей час прожила в Смоленске, больше, чем на две недели его не покидала, за границей, если Минск и Одессу не считать, не была, окончила три года назад филфак, работаю в управлении образования городском, недалеко отсюда, за углом, по сути, поэтому я частенько заглядываю после работы сюда. Здесь всяко повеселее, чем дома, и вкусно, хоть и без особых изысков. К слову, «Ревизорро» в прошлом году здесь снимали и повесили наклейку с рекомендацией, вы не обратили внимание, на дверях? Но сижу я обыкновенно внизу, наверх не забираюсь. Летом вообще уличные столики лучше всего, на воздухе, с птичками, солнышком, но сейчас уже не сезон, конечно. На завтра, кстати, хотела предупредить, у нас штормовое предупреждение объявили, так что вы имейте в виду. В августе очень сильный ураган был, тут на Блонье деревья повалило, и в начале лета еще, так что год весь какой-то идет буйный... Бурьный.
Я взглянул наверх, где за стеклянным шатром крыши неприметно сгущались прошитые изморосью сумерки, и подумал, какими безобидными могут казаться на вид первые симптомы надвигающейся катастрофы.
— Хорошо, Вера... Да, спасибо большое за предупреждение, завтра буду осмотрительней тут у вас. Начнем об Алексее? Все же ради него мы оба с вами здесь сидим, а не ради моего семужьего стейка. Вы в интернете познакомились?
— Да, в Фейсбуке. В десятом году, полжизни назад. — Она опять усмехнулась, но как-то совсем не весело.
— Вы легко вообще начинаете с незнакомыми людьми общаться? Со мной вот сейчас? С Алексеем тогда? Просто для меня самого это иногда бывает, ну, если не проблемой, то... барьером каким-то, что ли. Может, оно с возрастом, конечно, стало резче проявляться. Я нечасто новые знакомства вообще завожу, если только не по служебным делам каким-то. Именно что личные знакомства я имею в виду. Всегда хочется как-то сначала присмотреться, подготовиться к человеку. Держать дистанцию.
— Да вроде мне легко удается почему-то... — Она задумалась. — Хотя в реале, может, и нет, ну, вы понимаете.
Вера указала взглядом под стол.
— Это с детства у меня, очень неудачно упала с высоты, несколько операций делали, но одна нога такой вот осталась. Хотя, с другой стороны, в каком-то смысле даже и легче. Сразу много чего отсекается. И много кого. Обе стороны... изначально лишены всяческих иллюзий, наверное, поэтому. Ну а в интернете, в общем, я очень легко с людьми схожусь, может, конечно, сублимация какая-то, не знаю. Я думаю, тут дело еще и в том, что хороших людей больше на свете, чем плохих, просто плохие заметнее. Поэтому как-то мне с людьми легко.
— Знаете, Вера, я не социолог, конечно... Но разве в местах массового скопления, в интернетах всех этих, в соцсетях — концентрация разного рода, хм, идиотов не превышает как раз среднюю по больнице? Мне очень часто доводилось в подобном убеждаться, нет?
— Так-то да, верно. Но тут, видите, и обратный принцип действует: проще связаться, но проще и развязаться. Я к такому отношусь без серьезных каких-то переживаний. Отписалась, убрала из друзей, заблокировала — и все. Просто выносишь человека за скобки, не человека ведь получается даже — аккаунт, страницу. Это ж не в жизни, вовлеченность в каждое такое отношение, в любое знакомство в соцсетях гораздо меньше, чем в случае реальной дружбы или реальных отношений. Практически всегда.
Я согласился, она рассуждала очень здраво и взвешенно. Я присмотрелся к ней внимательнее. Интересно, подумал, она сказала про «свободу от иллюзий». Елена тоже освобождена от любых иллюзий, но если у той это было следствием жизненного опыта, какой-то встроенной жесткостью и, пожалуй, бережно взращенным здоровым цинизмом, то в Вере ничего такого я не видел. Она возрастом младше Туманцевой, но казалась мне гораздо старше и опытнее ее. Как ни удивительно.
— Ну, хорошо, вы познакомились с Алексеем, общались... А потом что — вынесли за скобки, по вашему выражению?
— Не совсем так. — Она задумалась, будто взвешивая внутри, что именно стоит мне рассказывать из всей этой истории. Задумалась, сделала большой глоток, наверное, почти остывшего кофе. — Мы долго переписывались с ним, больше полугода он был интересным собеседником, часто у него какой-то обнаруживался неожиданный взгляд на вещи, нетривиальный. Потом я ездила в Питер, следующим летом, на десять дней... по другим делам, но так совпало. Как вот у вас со мной и Смоленском. И мы с ним встречались там. Собственно, за пределы тех десяти дней наше живое общение не вышло. Так уж вышло.
— Почему?
— Алеша... он был странным. Очень хорошим, добрым, во многом наивным человеком. Во всяком случае, лучше, добрее и наивнее меня. Но...
Вера зримо колебалась. Однако я хладнокровно ждал.
— Кое-что в нем испугало меня.
Она опять замолчала, причем так, как будто совершенно не собиралась продолжать. В ее интонации прозвучала полная завершенность. Я понимал, что за последними словами должно быть что-то важное, возможно, то самое, что даст мне искомый ответ, решение. Понимание. Она хотела бы рассказать, иначе бы просто сюда не пришла, но она не решалась.
— Вера?..
— А мы не можем на этом остановиться? — неожиданно спросила она, пристально разглядывая райских птиц, вестниц мира иного, в яблоневом саду. — Просто иначе вы решите, что я или помешанная или какая-то фантазерка. «Психичка» — у меня так одна коллега говорит в управлении, не про меня, конечно, нет, вообще. И что меня надо в Гедеоновку свезти, за городом у нас тут поселок такой, где областная психбольница.
— Во всей этой истории с самого начала уже так много странного, что странностью больше, странностью меньше — вряд ли что-то сможет заставить меня так подумать. Ну, кроме разве, чего, богоявления? — Я ободряюще улыбнулся ей. — Но таких ведь речей у нас не будет, правда?..
Чтобы помочь ей преодолеть ее сомнения или страхи, я сопроводил свое ободрение кратким изложением «странной истории» — с того момента, как сам обнаружился в ней, ответив на телефонный звонок в Пулково. Закончил ночным египетским пляжем, на котором нашли последние известные следы Алексея Андреева в этом мире.
— Все выглядит каким-то нагромождением странностей, — подытожил я, — и мне очень хочется в нем наконец разобраться. Может оказаться, что значение имеет самая незначительная деталь. Но «поручение должно исполнить любой ценой», кажется, у Баратынского есть такие строки. Я не думаю, зачем, не знаю. Зачем-то. Так что именно вас напугало?
— Он умел... приносить вещи из снов, — быстро, видимо, чтобы уже не передумать, и негромко сказала Вера.
— В каком смысле?
— В самом что ни на есть. Если он видел какую-то вещь во сне и если ему хотелось, он мог забрать ее оттуда. Сюда. Это удивительно, так не бывает в жизни, понимаете, я думала, что так не бывает. А оказалось как-то... жутковато.
— Но... — Я растерялся. Вот именно такое вот «но-о-о» непроизвольно выползает из растерявшегося человека, который еще не успел собраться и еще не готов принять только что услышанное. Чуть позже, может, через несколько секунд, он подберет себе слова, отыщет возражения, поставит вопросы... — Но, Вера... откуда вы знаете? Вы видели сами, или Алексей вам рассказывал? Как это, собственно, было, как подобное вообще возможно?
Она молчала.
— Вера, вы меня не разыгрываете?..
— Нет, — ответила она. — Вы знаете, что такое константиновский рубль?
Я покачал головой.
— Это редчайшая монета. Ее отчеканили в междуцарствие тысяча восемьсот двадцать пятого года, когда предполагалось, что престол займет цесаревич Константин Павлович, старший из трех братьев Александра Первого, а не Николай. Но с престолонаследием тогда получился полный кавардак, плюс восстание декабристов... После четырнадцатого декабря, разумеется, уже отчеканенные рубли были переплавлены, но, как выяснилось впоследствии, несколько экземпляров сохранилось. Всего несколько штук, единицы. Вот так, если совсем коротко.
— И что?
— Понимаете, он мне показывал тот рубль. Алексей. Он рассказал, что ему снилось, будто он нашел его в каком-то заброшенном доме в области, в Ропше, что ли, в жестяной шкатулке, в комоде. Сунул во сне в карман своей ветровки, а на следующий день, когда доставал мелочь, чтобы расплатиться в продуктовом, обнаружил в пригоршне и эту серебряную монету. И я видела ее своими глазами. Не на фото, поверьте, не по видеосвязи — своими глазами. Я тогда тоже ничего ни о каком константиновском рубле не знала, до того как он мне его показал, но потом почитала специально: совершенно невозможно, чтобы у него оказалась такая монета. Их во всем мире всего несколько штук, семь-восемь, в музеях в основном и в частных коллекциях. У Алеши ее быть точно не могло!..
— Ну, хорошо, Вера, хорошо... Но почему вы думаете, что этот рубль вообще настоящий? Не мог быть это какой-то, не знаю, сувенир от китайских умельцев?..
— А вы много встречали константиновских рублей на сувенирных лотках или в лавках? Я вот никогда. По крайней мере после — точно никогда, когда стала обращать внимание.
Вера опять помолчала. Она понимала, что непросто взять и вот так сразу ей во всем поверить.
— И потом, насколько я знаю, он ведь не был нумизматом, я не видела никаких других необычных монет у него...
— Насколько мне известно, да... Не был.
— Разве такую (она очень выделила, подчеркнула голосом — «такую») монету обыкновенный человек может откуда-то взять и хранить случайно, без всякой другой коллекции?
— Пожалуй, нет. Ну, хорошо, монета. Это очень, просто архистранно, но... что-то еще происходило такое?.. Какие-то, возможно, другие случаи?
— Происходило, — ответила Вера. — Книга одна была, маленькая книжка стихов, я тоже видела ее, Алеша рассказал, как купил во сне приглянувшийся сборник в «Чае и книгочее» и наутро книжка лежала на тумбочке в прихожей, с ключами и какими-то там обычными прихожими вещичками, как если бы он там ее оставил. И… книга нигде не издавалась никогда, я прошерстила потом весь интернет — нет такого сборника. Он назывался «Ветряной человек», страниц сорок, маленькая книжка. Я ее видела, наяву, при свете дня, понимаете? Держала ее в руках, читала стихи из нее — из книги, которой нет.
Я молчал, пытаясь как-то осмыслить услышанное. Замолчала и она.
— Но как такое вообще возможно? — спросил я наконец.
— Думаете, я знаю? Я не знаю. Сновидение — это ведь функция сознания... Алеша как раз увлекался в то время различными практиками работы с сознанием, что-то такое там было типа дзена или йоги, или что-то современное, он пытался объяснить, но мне не очень интересно тогда было, чтобы вникать.
— Наркотики?
— Нет! — Она бросила на меня рассерженный взгляд. — Совершенно точно нет. Ни грибов там никаких, ни химии, ни таблеток, никакой подобной кастанеды. Он учился как-то сам с этим работать, без костылей. Передвигать сознание внутри тела — он объяснял, например, думать центром ладони, или плечом, или коленкой, определять свои физические границы, что ли, пытаясь — как он говорил — отчувствовать и понять тело свое полностью, как целое. Это все в реале, но, возможно, и со снами у него были какие-то подобные опыты... Поэтому, когда вы написали про исчезновение... мне кажется, оно могло быть как-то связано с его перемещениями между реальностью и сном. Мы же не знаем, ведь если он что-то умел «оттуда», то, возможно, мог как-то и «туда»? Вот первое, что мне пришло в голову... Вы ведь мне не верите? — спросила она после паузы.
— Вера, я верю, — обнаружив, что скаламбурил, я непроизвольно улыбнулся, — верю вам. Правда. Но я не представляю просто, как мне поверить в вашу историю.
— А у меня наоборот, — сказала она. — Я как-то наткнулась, не знаю где и по какому поводу, на фразу Кантора, был такой немецкий или русский, не помню, математик, доказавший, что — сейчас попробую сформулировать, подождите… — множество точек отрезка равновелико — если ничего не путаю, так — множеству точек квадрата, построенного на этом отрезке. Вспомнила, по какому поводу, — муж мне рассказывал, да, из «домашних заготовок» его, наверное, было. Он же физик. Так вот, Кантор, доказав как раз свою знаменитую теорему, написал: «Я это вижу, но я не верю в это». Так же и у меня. Я видела сама, но я не верю — в то, что видела.
Когда мы прощались в прохладном сумраке городского сада у закрывающегося кафе и Вера уже ответила твердым отказом на мое предложение проводить ее домой, в моих — путающихся от всех сегодняшних сует и дорог — мыслях мелькнуло вдруг, что я, кажется, что-то упустил.
— Вера, так как же у вас все закончилось с Алексеем? Какая-то точка финальная — была?..
— Тут, скорее, не столько даже закончилось... — чувствовалось, что она тщательно подбирает слова, — сколько, знаете, — не продолжилось. Отношения остались, но следующего шага мы оба не сделали. Наверное, и у Алеши нашлись какие-то причины. Может быть. И у меня — то, о чем я вам говорила: мне жилось как-то не по себе рядом с ним, когда я засыпала с ним рядом, простите уж за такие подробности, у меня все время толкалась локтями в голове назойливая мысль, что я боюсь того, куда он сейчас уходит. И... в общем, хотелось чего-то более спокойного, предсказуемого. «Простого человеческого счастья», да?
— Да, я понимаю.
— Мы общались, переписывались иногда, однако только по-приятельски, не более того. Какой-то предохранитель сработал, в голове. И потом... у меня был друг, со школы еще, здесь, в Смоленске. Хороший очень друг, всегда он мог как-то поддержать, успокоить, я ведь тоже не самый простой человек, он не давил на меня никогда, с ним как-то все складывалось — понятно, просто, по-человечески. Иногда так не хочется чего-то усложнять, понимаете?.. И я на третьем курсе, после третьего — вышла за него замуж. Но вот... и с этим тоже не очень удачно как-то получилось, к сожалению.
Мы простились с Верой, условившись, что если вдруг мне что-то придет в голову, вопросы какие-то еще, или она сама вспомнит потом нечто важное, то мы всегда можем продолжить наш разговор. Она попросила меня также, чтобы я сообщил и ей, если мне удастся обнаружить что-то важное об Алеше. «Возможно, у меня какое-то чувство вины, напрасное или нет, я не знаю, правда», — сказала она.
Я зашел по пути в магазин купить что-нибудь простенькое на завтрак, чтобы никуда больше не выбираться из гостиницы до отъезда, тем более если вдруг действительно будет ураган. В номере, устраиваясь ко сну после душа, я внезапно сообразил, о чем совершенно забыл ее спросить! Отправил ей сообщение: «Вера, а вам фамилия Близнецов ни о чем не говорит?..» Подумал, переворачиваясь, завтра ответит так завтра. Не к спеху же, так.
Но телефон тренькнул в ту же минуту.
«Говорит, конечно, — написала она. — Это фамилия моего бывшего мужа. А что?»
Год одиннадцатый
Покидая любой из дней, мы знаем, что никогда больше сюда не вернемся. Волна невозвращения движется по меркаторской карте мира за линией полуночи, когда все семь миллиардов жильцов собирают свои — кто скромные, кто побогаче — пожитки: одежду и мебель, книги и безделушки, документы, сбережения и накопления, посуду, инструмент, бытовую технику, съестные припасы, чемоданы свои на колесиках, сумки, рюкзачки, шуршащие полиэтиленовые пакеты и — ты-дым! — со всем своим нажитым вот они мы — снимаемся целым табором, необратимо отправляясь дальше, оставляя лагерь этого дня тем немногим, кто навсегда в нем остается. Ну как немногим — тысяч сто пятьдесят, если собрать их одним взглядом по всему огромному миру. Такое население у каждого из чисел нашего календаря — полтораста тысяч. Небольшой городок, обжитой и уютный, вроде Коломны, Пятигорска, Гейдельберга, Римини, Оксфорда. Вот и все, что осталось от дня, — город мертвых, тех, кому назначено, верно, присматривать за совершившейся здесь историей. Да чокнутые вороны на черных ветках.
Но и отправляясь вместе — в общее, прорастающее в нас завтра, иногда мы разъезжаемся в разных направлениях. Вот, казалось бы, только-только были в одной точке, и сами были одной крохотной точкой на карте города с высоты спутникового полета, А и В сидели на траве, в прозрачном вечере, за Исаакием, с видом на Медный всадник. А теперь они — двое — разделены непроницаемой плоскостью, стеклом вагонного окна; Алеша стоит на перроне, он смотрит на нее со стороны остающихся, смотрит очень внимательно, но все равно выглядит несколько отрешенным. Еще ничего не решено между ними. Вместе приехали на вокзал, выпили кофе, ждали на выходе к платформам, когда подадут состав, потом Алеша помог ей занести вещи в вагон и разместить под полкой. Пока никого из соседей по купе не было, посидели рядом. Потом женщина в ветровке и футболке с принтом I love SPb приволокла огромный чемодан, две сумки и полудюжину пакетов, принялась раскладывать и распихивать все это добро под своим сиденьем, закидывать что-то наверх, и Алеша сказал: «Я постою снаружи до отправления». Простились, обнявшись, торопливо и сдержанно, как не прощаются навек, потому что по проходу мимо них все время сновали провожающие и отъезжающие, потому что тетка напротив никак не могла задвинуть под полку необъятный чемодан, потому что никто из них не прощался навек в ту минуту. Он вышел на перрон, по ту сторону непроницаемой стеклянной плоскости, и Вера осталась одна в плацкартном своем общежитии.
Ей очень не нравились поезда. Их приходилось терпеть только ради того, что ожидало ее «там», с той стороны поездки. Существовали точка отправления и точка назначения, а между ними были вытянуты скучные, разреженные часы, заполненные раздражающей близостью чужих людей, их едой, их запахами, их тесным движением и темным разговором. К счастью, необходимость в поездах у Веры возникала нечасто, едва ли больше десятка раз за почти двадцать лет ее жизни. Немногочисленные эти поездки оставили, впрочем, глубокие следы и в памяти, и в подсознании, так что если бы у нее спросили, что из себя представляет человеческий ад, — Вера, не задумываясь, описала бы его как бесконечный плацкартный вагон, полный стухшего света и орущих младенцев, оставленный во тьме внешней на занесенном и пустынном полустанке.
Лишь одно только недолгое железнодорожное время было ей интересно и хоть как-то искупало все остальное — конец ночи, самое раннее утро, когда, по обыкновению проснувшись раньше всех в мире, она отправлялась в ту, что подальше (нарочно!), уборную. Медленно, покачиваясь вместе с вагоном, придерживаясь за края перегородок или поручни, она шла по проходу, уклоняясь от свисавших с верхних полок рук и сбившихся одеял, внимательно огибая вытянутую тут или там ногу разметавшегося во сне человека, переступая через кем-то сдвинутую в проход обувь... И любопытно разглядывая лица спящих попутчиков — всех этих вчерашних теток с их баулами, галдевших весь вечер подростков, мужичков с крайних мест, до полуночи резавшихся в карты под пивко, вредных матерей с вреднющими отпрысками, поблекших прозрачных бабушек, молодые супружеские пары… Осторожный путь ее — туда и невдолге потом обратно — оказывался для Веры единственным развлечением за всю дорогу; больше ничего хорошего в поездках никогда не случалось. Несколько медленных минут в окружении соседских сновидений как-то примиряли ее с существованием человечества; ни в одном из осмотренных лиц не обнаруживалось ни следа жесткости, зависти, ненависти, корысти... Никаких -стей и костей — плавные лица спящих были ненарочные, простые и теплые, в глубине каждого из них горело не электричество, но колеблющийся огонек.
Так же, с тонкой лучиной внутри, спал при ней и Алеша. Вера всегда пробуждалась первой и в очень ранних сумерках петербуржского утра с любопытством изучала его лицо в поисках следов двадцати семи лет жизни, происходившей с ним до нее: таинственный шрамик у левого виска, первые морщины на лбу, в уголках век, беззащитно по-мальчишечьи приоткрытый рот. Перед тем как он просыпался, она всегда прикрывала глаза, чтобы не выдать своих наблюдений. Потом — за завтраком или на балконе, где они любили попить черного крепкого кофейку из огромных кружек («Опять без тапок, непослушное ты босикомое», — журил ее Алексей), — потом он рассказывал ей о своих снах, и они обсуждали их вперемежку с планами по наступившему дню, совершенно не заботясь ни о том, что было прежде, ни о том, что ждет их с завтрашней стороны ночи.
— Иногда оно напоминает мне, — говорил он, — какое-то перетягивание каната... между мной с той стороны и мной с этой. Когда просыпаешься утром и не понимаешь, где тебя больше — здесь, где проснулся, или там, откуда сейчас вернулся. Как будто тот прирастает мной, ночь за ночью, неделя к неделе.
— Но ведь со мной тебя больше? — спросила тогда Вера.
Алексей поднял взгляд и кивнул, очень серьезно как-то:
— Да. Большой из нас — с тобой, моя маленькая.
— Люблю тебя очень, — сказала Вера.
— И я тебя.
— Сильно?
— Пресильно, — улыбнулся он, — сильнее всего — на целом свете, на всей планете.
— Сегодня я видел ночью, — говорил он, — что на обоях появилось окно, а за ним, я понимал, была реальность. Такое, знаешь, странное окно, закрытое на молнию, будто тяжелые портьеры на нем стянуты железным язычком до самого пола, и я должен просто расстегнуть его, чтобы все открылось.
— И как — расстегнул? — заинтересованно спросила Вера.
— Нет, — ответил Алексей. — Вообще-то сел уже на корточки и потянулся к язычку молнии шторной, но потом будто заранее увидел, как я поднимаю ее, раздвигаю портьеры — а там, за окном, дом вот этот (он показал рукой на дом напротив)... этот же самый, но другой. Другой дом, понимаешь? И что там в окне ты стоишь и на меня смотришь. И я подхожу к тебе из глубины той комнаты, что в доме напротив, и тебя обнимаю.
— Я запуталась, Леш, — сказала она. — Как-то мне не по себе, честно говоря.
— Мне тоже. Мне тоже, маленькая. Странно, что все там взаправду... Один мой близкий друг далекой юности — большой сердцевед и человекознатец, — было дело, мне объяснял, в чем разница между временем наяву и тем, что во сне. Похоже, говорил он, как общее время и частное, отделенное от того первого. Здесь у нас время одно на всех, и в нем, так или иначе, всегда есть спутники какие-нибудь, свидетели, современники, да? Кто-то всегда живет рядом, даже если ты на острове и заперся, например, в сортире справить нужду.
— Ну Леш... — Вера посмотрела на него с притворной укоризной.
— Ладно, ладно. — Он поднял руки, извиняясь. — В общем, мысль-то понятна. Гуляем мы, смотрим фильм, готовим ужин, идем домой, слышим щебет щегла какого-нибудь, сидим летней ночью на берегу залива — все, что происходит, мы всегда делим с кем-то еще... Этот «е-ще» — он всегда где-то здесь и обладает тем же самым мгновением. И идеальное одиночество, полная исключенность из остального мира — наяву и для живого невозможны в принципе. Во сне же ровно наоборот — то время и, самое главное, тот опыт существуют исключительно для своего хозяина. Или носителя, не знаю уж, как тут правильно сказать.
Алексей задумался; Вера молча пила кофе, зная, что здесь пока не конец истории.
— Что тут у нас с завтраком-то?.. — Он повернулся на стуле и наклонился, щурясь, к экранчику мультиварки. — Две минуты. Ну вот, и получается, что там никого кроме меня нет. И ни в этот раз, и ни когда-либо прежде, и не будет, понимаешь? Там целый мир, принадлежащий мне одному. И твой — тебе одной, и так далее, да. Мир, в котором, кроме всего прочего, возможно соединять любое время с любым. Мне, знаешь, как-то снилось давно, что я был моим отцом и держал на руках новорожденного сына, и жена стояла рядом и крутила какую-то игрушку перед лицом младенца, а тот как-то непонятно кривился — то ли улыбнется сейчас, то ли разревется — и тянул кукольные свои ручки к маме... Там все они рядом во мне — мертвые, и живые, и будущие. «Чаю воскресения мертвых», вот оно где совершается это желание — в сердце сна. И иногда даже бывает явственнее, чем наяву. Так, во всяком случае, видится на первый взгляд.
— Но ведь случается, что второй взгляд увидит не то, что видел первый, нет?
— Да, слушай, точно!.. — Алеша как-то радостно вскинулся. — Ты мне напомнила, другая совсем, конечно, история; к яви и нави нашим не относится совершенно, просто про взгляды ты сказала, и я вспомнил. У меня на позапрошлой работе шеф был коллекционером таким, с размахом: живопись, старые книги... и нумизматика в том числе. И ему пришла как-то, видимо, мысль, он из части своей коллекции банкнот и монет сделал, ну, как сделал — заказал, чтобы сделали где-то в мастерской, — большие панно в рамках, какие, знаешь, из бабочек еще иногда делают.
В этот момент запищала мультиварка. Алексей отключил ее от сети, достал из ящика половник и, насыпав в каждую тарелку горсть смородины, принялся накладывать овсянку.
— Ну так вот, там и старые очень банкноты были, огромные, в половину, наверное, а-четвертого, екатерининские, и девятнадцатого века, купеческие такие, и керенки, и советские, и современные — наши, иностранные, монеты — тоже от старинных до современных коллекционных... И вот все те панно развешали потом вдоль стен коридоров в офисе. Как-то я задержался вечером, работал допоздна, ходил по коридору проветриться, а он уезжал домой как раз, шеф. И увидел, что я любопытствую, разглядываю какие-то там банкноты. Спросил у меня мимоходом, хоть, кажется, и спешил: «Что, Алексей, тебе нравится?» Я говорю: «Интересная мысль у вас получилась с этим, Вадим Сергеич». «Какая именно мысль?» — Он остановился рядом со мной. Я объяснил: говорю, когда человек первый раз к нам приходит, например, идет мимо всей нашей коллекции и видит, он думает что-то вроде: «О, здесь царит культ денег!..» Бизнес, фэн-шуй на финансовое благополучие, да? Что-нибудь такое. Но если во второй раз он взглянет чуть внимательнее и глубже, то поймет, что дело обстоит с точностью до наоборот. И смысл всей нумизматической инсталляции как раз в том, что в конце концов любые деньги оказываются просто раскрашенной бумагой или кусочками металла.
Алеша шагнул вплотную к вагону, привстал на цыпочки и приложил на секунду ладонь к стеклу.
Она вспомнила, как спросила его вчера, когда А и В сидели на траве, за Исаакием, с видом на Медный всадник:
— Хотел бы ты другой какой-нибудь судьбы?
— Нет, — быстро отозвался он. — То есть да, но... Дело ведь в том, что я и выбирал ее, эту самую какую-то другую, каждый раз, в любой точке разветвления, разве нет? То есть я уже выбрал, получается, не кто-то за меня; вся судьба — сумма моих выборов. Ошибался ли я? Да, сейчас знаю, что ошибался. Но в общем-то... прожил и прожил. Бывали судьбы и хуже, бывали и лучше — моя, наверное, где-то посередине. А иногда мне вообще кажется, что все просто приснилось кому-то, может, тебе, не знаю. А потом этот кто-то — не ты ли? — просыпается, выходит на берег из ночного моря, и...
— И что?
— И ничего не остается. Во сне и в море нет следов.
Вера хотела что-то сказать ему, пусть Алексей не услышит через стекло, но хотя бы прочитает по губам, все равно она должна была сказать ему, когда поезд чуть дрогнул всем своим стальным вытянутым туловищем, дернулся, тронулся, отходя от платформы в близкое уже завтра, лежащее за короткой летней ночью, через которую — с полутысячей снов своих пассажиров — предстояло ему плыть ковчегом дальнего следования, окруженным со всех сторон пылающею бездной.
пятнадцатое
Ужасно болело все, что в принципе может болеть. Спина, голова, глаза, живот, задница — все.
Метро еще работало, но на пересадку я бы вряд ли успел. Через приложение вызвал такси. Поезд остановился. Я с колоссальным наслаждением разогнулся, вышел из вагона, зашагал по перрону, потом чуть-чуть пробежал... А у такси снова приуныл: сидеть я уже не мог, но выбора не оставалось. Сел, хотя лучше всего было бы лечь — но придется потерпеть. Опять терпеть...
Рыжая чертовка и смоленская хромоножка поведали мне много интересного, подчас взаимоисключающего. Поверил ли я им? Разумеется, нет. Ни в коем случае. Ни одной из. Я им не верю хотя бы в том, что они не знают, где Алеша и какие беды с ним приключились. Допустить это могу, но не более чем одну из версий. Может, Вера знает, а Лена нет. Или наоборот.
Но кое на что их байки меня натолкнули.
Найти себя заново, сказала Елена. Приносил вещи из снов, сказала Вера.
И что важно — обе говорили весьма неуверенно. Сомневаясь. Можно ли имитировать такое сомнение? Вряд ли. Думаю, тут они не соврали. Хотя бы тут.
Но почему они сомневаются? Потому что они не знают Алексея. С одной он прожил сколько-то лет, с другой нежно переписывался и, судя по всему, неплохо провел десять дней в Петербурге. Но ни одной, ни другой это не помогло. Они его не поняли. Не хотели, не могли — вопрос второстепенный, но факт: не поняли. А я понял. Не полностью, но хоть как-то.
Поэтому их версии, даже если я решу, что они не врут, отражают лишь одну часть души пропавшего. Одну грань. Из огромного количества. Девушки рассуждают предельно линейно. Рыжая по крайней мере точно так. Она с минимумом оснований приняла на веру (на веру!), что Алеша как личность — так-сяк-наперекосяк, и устойчиво продвигает свою гипотезу везде, где может. Ну и раз он весь из себя «такой никакой», то логично, с ее точки зрения, что он хотел это поменять. А вдруг он, да, был вполне заурядным человеком, но не фатально, и совершенно не хотел меняться? Или хотел, но немного, как и все мы?
Почему мы вообще думаем, что человека можно описать одним качеством? Вот мы решаем, что человек таков. А если он не таков, значит сяков. Сужаем все до крайности. Но бинарная система давно показала свою несостоятельность.
Или вот — приносил вещи из снов. Что за чепуха? Хорошо, допустим, рупь дурацкий и книжка. Я вполне могу допустить, что все это правда. Но почему Вера, зная, что Алеша пропал, рассказала мне именно о них, о рубле и книжке? Да, конечно, потому что ее поразило до глубин селезенки, как Алеша их «нашел». Но о других-то вещах — важных! — она не упомянула. А ведь они есть. Да, я приехал в Смоленск для того, чтобы ее послушать и посмотреть на нее. Ее слова мне были важны, но не первостепенно. Но она-то не знала моего плана. И вот, беседуя с человеком, который так или иначе занимается пропажей ее бывшего любовника, она мелет чушь про рубль. Вместо того чтобы вспомнить как можно больше фактуры — что за людей он упоминал, в какой квартире жил, о чем писал ей в самый последний раз, — она упомянула вещи из снов.
Ух, как я зол!
Правда вот Близнецов. Судя по всему, очередное совпадение. Возможно, что Андреев, узнав фамилию бывшего мужа Веры, просто зацепился за нее. Говорят, некий западный писатель изучал дверные звонки в поисках вдохновения и, увидев какую-то невероятно атмосферную фамилию, тут же придумал мощный сюжет. Всего лишь найдя фамилию. Наверное, Алеша поступил так же.
Я разберусь во всем этом, если пойму Алексея еще больше, еще лучше. Правда, такого поручения мне никто не давал. И за это мне никто не заплатит.
Кстати, о деньгах. Воловских-то пропал. Деньги перечислил — и не уточнил, получил ли я их. Все понимает, подлец! Как ни противно, но придется с ним тоже поговорить снова. И с Элли, кстати, тоже, но не сразу, иначе моя деревянная голова совсем лопнет.
...Раздевшись и передохнув буквально пять минут, решил написать Фариде — вдруг не спит? «Привет, я приехал», — брякнул я ей сообщение. «Откуда Рюсик мой сладкий», — прилетел ответ через минуту.
Ч-черт, я же ее не предупреждал. Иногда надо включать голову, пусть она и деревянная! «Я не говорил? Ездил на дачу к отцу». — «Вроде говорил что собираешься но я похоже опять все забыла прости пожалуйста». Что за, право слово, жертвенность! Чуть что — виновата она. «Заедешь завтра?» — «А ты ждешь» — «Очень, я соскучился». — «Конечно же заеду или ты заезжай если захочешь как тебе удобнее я очень рада».
И что характерно, я ни на йоту не преувеличил. Соскучился. События последних дней очень ярко подсветили, кто есть кто. Выносить ложь, как едкий газ окутавшую меня в последние дни, я уже не мог. Дико, честно говоря, надоело общаться, взвешивая каждое услышанное слово: а не наврали ли? Зачем обманывают? За кого меня принимают в этом отеле?
А Фарида не врала никогда. Не то чтобы я проверял — но каким-то загадочным образом ее слова всегда подтверждались. Говорила, что едет на дачу к подружке, — в Фейсбуке обязательно всплывали фотографии оттуда. Однажды в течение суток ее телефон был выключен — сказала, что поехала к родителям, компьютер с собой не взяла, а мобильник сломался. Через пару недель на ее холодильнике нашел счет из сервис-центра. Дата приема — ровно тот день, я потом ради интереса уточнил.
Это даже не говоря о редчайшем добродушии, неизменных — порой успешных — попытках проявить заботу и готовности в любую секунду приехать ко мне в Купчино или принять меня — «как мне удобнее», все именно так.
В общем, после липких оправданий Елены, после несуразных баек Веры, а также в предвкушении убогого, пахнущего вечным тленом лепетания Воловских и заумных уходов в сторону Гусевой Эвелины Игоревны мне действительно захотелось услышать уже привычный голос Фариды, говорящей что-то рутинно-спокойное, и в этой рутинности — ценнейшее. Но кого я хочу обмануть? Ее упругое тело ощутить хотелось гораздо сильнее.
«Завтра точно решим, но встретимся непременно, не обсуждается», — написал я Фариде, присовокупив несколько сердечек, знаменующих мое доброе к ней отношение.
Еще я внезапно родил свою версию: а может, у Алеши появилась новая женщина, ради которой он захотел бросить все? Какая-нибудь необычная женщина, появление рядом с которой в наших широтах исключено. С иным цветом кожи, например. Или, может, это и не женщина вовсе, потому что Алексей обнаружил в себе гомосексуальность? Бисексуальность? Транссексуальность? Понятия не имею.
Понятия не имею.
Опять проклятое понятие. То есть понимание.
Почему его никто не понимал?
Ну почему, Элохим?
Факты о жизни Алексея Андреева, которые мне удалось установить за время «исследования», можно записать в небольшом абзаце. Факты. Прочие сотни тысяч слов, обрушившиеся на меня, — лирика, которая по большому счету никому не нужна со-вер-шен-но. Все вымещают свои комплексы, обиды и недоговоренности, благо на мертвом (или пропавшем) это сделать куда проще, а разорвать круг и оставить в стороне свой эгоизм никто не может.
Смог бы я сам? Не знаю. Мои обстоятельства не таковы, и думать в сослагательном наклонении ни к чему.
В давешнем разговоре с Еленой всплыла герменевтика — искусство толкования и интерпретации текстов, в глубине которой лежит как раз стремление к пониманию, осмыслению.
К пониманию!
Но — текстов.
А их у меня как раз нет. От Алеши осталось очень-очень мало. Соцсети — дело хорошее, но он сам писал чрезвычайно редко (и уныло), в основном ограничиваясь цитированием чужих записей — как в случае с Апухтиным. Еще есть два стишка псевдо-Близнецова... Но и стишки — сомнительные документы, как минимум из-за того, что, во-первых, я хоть и уверен, что их автор — Алексей, окончательного подтверждения этому нет и не будет, а во-вторых, наш герой писал их все равно не от себя, хотя, очевидно, и вкладывая в них всю душу.
Вот и получается: видимых следов Алеши почти не существует, все затерялось. Есть только тексты, которые мы все, меня включая, приписываем ему. Все есть вымысел. Поэтому герменевтом мне сейчас не стать. Надо идти на ощупь, плыть по сознанию и подсознанию — будто в поисках какого-нибудь золотого руна, только метафизического, которое не потрогаешь, волшебного оберега, талисмана, который обеспечит благополучие всех нас, втянутых в дикую и до сих пор крайне туманную историю.
В порту меня ждет мой корабль, ветрокрылый и легкий,
его я назвал «Понимание» — Боже, помилуй.
О как бы хотел я подняться на борт «Пониманья»,
ни в ком не нуждаясь на нем, кроме воли Господней!
О как бы хотел паруса я расправить свободно,
и быстро уйти — как ушли на восток аргонавты,
которые к цели своей неуклонно стремились:
руно искушало их — знаменье благополучья!
Когда-нибудь я уплыву, герменевтикой древней
влекомый в просторы вселенной — души человечьей.
Клянусь, я до цели дойду, мой безбрежный Владыко!
Клянусь, что останусь навек я Твоим герменавтом!
Конверт между книгами
Адонай, наш милосердный Господь, сжалился: вместо неприятнейшего разговора получилась милейшая, хотя и короткая беседа (собственно, долгая — по телефону — и не требовалась). Воловских голосом обрадовался и сразу же сам предложил снова встретиться, Белкину даже не пришлось оправдываться, аргументировать и убеждать.
— Но почему же вы мне не позвонили сами? — не удержался Белкин от шпильки.
— Мне было страшно неловко после всего этого, — молвил Воловских и, услышав скептическое хмыканье Белкина, торопливо добавил, — пожалуйста, хоть сейчас поверьте! Никаких больше причин нет.
Как же замечательно, Элохим, когда люди отвечают на мои вопросы еще до того, как я их задал.
Встретиться условились после работы в пятницу — Белкин из уважения к старику согласился приехать к нему. И такое хорошее настроение царило в душе — то ли конец недели радовал, то ли погода вдохновляла, то ли незапланированный утренний визит Фариды прибавил бодрости, а может, нутром, непонятно-каким-по-счету чувством Белкин что-то предощущал, догадывался...
«Простите, Борис Павлович, я не имею права выставлять вас за дверь, однако я и говорить больше не могу, мне плохо. Я пойду в свою комнату, приму лекарство и лягу, а вы посидите тут, сколько хотите, а потом просто захлопните дверь», — вспомнил Белкин последнюю фразу Воловских во время их предыдущей встречи. Естественно, «сидеть тут» философ не хотел категорически, поэтому немедленно встал, накинул куртку и рысью выбежал, ничего не сказав напоследок.
С чего начать разговор? Белкин давно заметил, что в самом начале какого бы то ни было разговора собеседник не то что более откровенен — скорее более энергичен. Спросить про пароль? Или почему он соврал? Или не припоминать прошлое, а сразу предложить, изложите, дескать, Владимир Ефремович, свою версию исчезновения сына вашего, Алексея Владимировича? Хотя наверняка такой сухарь, как Воловских, скажет, что он теперь, все обдумав, подозревает несчастный случай. Но, впрочем, а почему он не может так решить? Это крепкая, рациональная, абсолютно правдоподобная версия, а все прочее — предположения, недоступные опыту и познанию, в которые можно только поверить. Но как истый скептик может на такое пойти?
А пока до их встречи еще добрых минут пятнадцать, надо поразмышлять о вероятной роли Воловских во всей истории. Оказалось ли старику выгодным исчезновение сына? Сомнительно: парень был, конечно, своеобычный, но никакого ощутимого беспокойства он ему вроде не создавал. Денег слишком много не вытягивал, водку не пьянствовал, в тюрьмы не попадал, память мамы почитал. Все, как говорится, в рамках нормы. Норма, конечно, у всех разная — и, по мнению Воловских, Алеша мог за отцовские рамки уже сто раз выйти. Но тогда старик упомянул бы нечто подобное — по крайней мере такое предполагать резонно.
Стареющий, точнее, давно постаревший вдовец (первично) и разведенный (вторично) на пенсии. Без материальных и жилищных проблем. (Мозг продолжил по шаблону: «Без вредных привычек, с высшим образованием и чувством юмора».) Что ему надо? Избежать, избегать одиночества, вероятно. Для этой цели идеально подходят дети и внуки. Но внуков не было, а с утратой сына шансы на них также оказались утеряны навек.
Тем не менее не мыслит ли Белкин слишком просто? А вдруг Алеша не поднимал стульчак, что бесило Воловских до полусмерти? Дело, естественно, не в стульчаке, но пониманию-то, проклятому пониманию мало что доступно.
Белкин вспомнил, что сразу после самой первой беседы с Воловских прошерстил весь интернет в поисках информации о нем — старик упоминался скупо, но упоминался. И в его не менее скупых словах о себе никаких расхождений с данными из интернета Белкин не заметил, поэтому и забыл об этом. И его отчаянный выкрик: «Не все!» — в ответ на обвинение Белкина во лжи — тоже вряд ли был ложным, наигранным. Просчитать, что Белкин догадается об обмане, и заранее отрепетировать свою правдоподобную реакцию — увольте, доходить до крайностей не надо. Поэтому примем за основу — с большой осторожностью, конечно, — что Воловских в каких-то базовых вещах не врал. Пожалуй, он действительно мог желать смерти сына только по каким-то совершенно необъяснимым причинам, которые никогда не всплывут, а если и всплывут, их достоверность установлена так и не будет.
Врет ли — то есть будет ли врать — Воловских теперь?
— ...Владимир Ефремович, давайте говорить строго по делу. В конце нашей прошлой встречи я сказал, что не уверен в том, что Алексея действительно по официальной версии нет в живых. Предлагаю вам рассеять мое сомнение.
— Каким образом?
— Покажите мне свидетельство о смерти вашего сына.
Воловских не шелохнулся. Даже, кажется, перестал моргать.
— Владимир Ефремович? — деловито осведомился Белкин.
— Да-да... Я понимаю вашу просьбу и, конечно, не собираюсь отказывать, иначе все будет выглядеть совсем странно. Но перед этим я бы хотел вам кое-что разъяснить.
— Готов выслушать.
— Оно существует. И там стоит имя Алексея. И его дата рождения. И дата смерти — согласно решению суда. Причину, слава богу, в бланке писать не надо. Но... Понимаете... Я его не видел.
— Кого?
— Не кого, а что. Свидетельство.
— Как так?
— Я не могу заставить себя прочесть, что... Алексей... что его не стало. Мне и произносить это невыносимо больно.
Такого Белкин не ожидал, но хладнокровие сохранил.
— Но... Вы же как-то участвовали в процессе? Вы же только что упомянули суд.
— Адвокат. Все адвокат. Мне в Египте выдали документы. Я вернулся, отдал все своему адвокату, Фетюхову. Он поизучал обстановку — оказалось, без какого-то там специального уполномоченного перевода на русский, без печатей египетского МИДа и российского посольства все бумажки — как раз только бумажки и есть. Пришлось специально отправлять курьера в Египет. Но расходы — чепуха, просто волокита. И времени много ушло. Потом Фетюхов поехал в суд, здесь уже, в Питере. А в суде говорят: слишком мало времени прошло. Пока не можем его признать... умершим. Тут я, честно говоря, изрядно обрадовался — нет решения, значит Леша жив. Но адвокату я о своих переживаниях не рассказывал. А потом он вдруг, без моего ведома, как-то договорился с судом, чтобы дело рассмотрели в особом порядке. И сообщил мне об этом буквально накануне заседания. И я не выдержал — просто сказал ему, чтобы делал что нужно, но меня больше ни в какие дела не вмешивал. Вроде он все осознал, потому что его отчет о суде был очень коротким. И еще через какое-то время он приехал с конвертом. Вот, дескать, свидетельство привез. Я велел ему вложить конверт между книгами на любую верхнюю полку. Вроде он так и сделал. Я не следил за ним в тот момент. И с тех пор я просто не снимаю книги с верхних полок. Но, конечно, когда-то нужно его найти там и вскрыть конверт.
— А может, он и не запечатан, — выдавил из себя Белкин, просто чтобы не молчать. История его очень растрогала.
— Может, — согласился Воловских. — В общем, если хотите, вооружитесь стулом и найдите его. Я клянусь, что не обманываю и не собираюсь делать из вас дурака.
Белкин прошел в другую комнату, встал на стул и уже на третьей полке, между неприметными томами напрочь забытого советского классика обнаружил конверт — в самом деле незапечатанный.
— Владимир Ефремович, есть, — крикнул философ, слезая.
— Открывайте, смотрите.
Открыл, посмотрел. Все чин-чинарем. Двусмысленностей нет. Обмана нет. И Алеши нет. Но загадка-то остается!
— Борис Павлович, теперь моя очередь спрашивать, — заговорил Воловских, когда Белкин снова уселся перед ним. — Зачем вы продолжаете заниматься делом моего сына? Не думайте, что я как-то осуждаю вас. Но недоумеваю.
— Я сам постоянно ищу ответа...
— Вы хотите почтить память Алексея?
— Да, но это не главное. Через наш с вами случай я лучше понимаю окружающую действительность, а философы, как говорил Маркс, занимаются только тем, что интерпретируют мир.
— Остроумно, я такого не слышал, — заметил Воловских.
— Но там есть и окончание. Маркс добавил: «...в то время, как мир следует изменять». По силам ли мне его изменить — я не знаю. Но понимание (голос Белкина дрогнул, но на сей раз он решил ничего не пояснять) растет. В связи с исчезновением Алексея моими собеседниками были четверо — вы и еще трое. И вы все меня обманули, простите. Наверное, у всех есть свои причины для лжи. Но четыре из четырех соврали — для моего мира это катастрофа, и это очень важная катастрофа. Если бы вы нарушили слово и не заплатили мне, но до того рассказали всю правду, я бы расстроился, честно говоря, но ложью ваш поступок не счел бы. А так...
— Но в чем, в чем я вам соврал? — воскликнул Воловских.
— Так ведь вы же мне сейчас и поведаете, — картинно подмигнул старику Белкин.
— Кажется, вы говорили, что не хотите быть Холмсом и Мегрэ?
— Говорил.
— Но вы гораздо сильнее их.
— Почему вы так решили? Мне приятно, конечно, но...
— Несколько причин. Во-первых, вы гениально разгадали пароль.
— Ого! И что там в ноутбуке?..
— Подождите минуту. Я предложил вам это задание, совершенно не предполагая, что вы с ним справитесь. Но вы, Борис Павлович, — снимаю шляпу. Впрочем, вы меня восхитили другим: вы настолько здорово расставили ловушки, что я оказался ими окружен — окружен фатально и безвозвратно. Вы спросите, что за ловушки? Обвинения во лжи и принуждение ее раскрыть. Видите ли, Борис Павлович, лжи я нагородил много. Но она была... как бы вам сказать... сознательно мелкой. Всякий раз. Я чего-то не договаривал. Немного кривил душой. Правды в моих словах — не менее девяноста процентов. Но вы почувствовали, что не сто. И пригвоздили меня.
— Владимир Ефремович, я очень хочу узнать, в чем именно вы кривили душой, но до того скажите, если вы меня сами пригласили, вспомните, я даже поначалу отказывался, зачем вы обманывали? Или наоборот: зачем пригласили?
— Алеша правда пропал. И именно в тех обстоятельствах, как я вам описал. И его действительно не нашли. Но случилось и еще кое-что, о чем вы пока не знаете. У меня есть все основания думать, что Алеша покончил с собой. Но я так дико не хочу, чтобы это оказалось правдой, что готов идти на любые расходы ради иного вывода. Я понимал, что вы не ограничитесь простым поиском пароля и будете строить свою версию. Я в ней нуждался.
Воловских откашлялся и продолжил.
— Главное, чего вы не узнали, — записка.
— Записка?! — крикнул Белкин.
— Записка. Я в тот день вошел к Алеше и при первом же осмотре комнаты обнаружил на столике, рядом с ноутбуком, счет из ресторана. Мы как раз накануне с ним сидели, немного покушали вечером. Перевернул его — а на пустой стороне его почерком написано: «Больше не хочу». Понимаете, Борис Павлович?
Внезапно Белкин расслабился. Старик его ни в чем не убедил. Можно было спокойно слушать дальше.
— Мы очень нехорошо поговорили накануне. Поссорились... Кажется, я вам рассказывал. И далее он исчезает со словами «Больше не хочу». Я был в отчаянии, Борис Павлович. Спрятал записку и никому ее не показал.
— Она у вас при себе?
— Здесь, в секретере, но отдавать ее вам не буду.
— Так и не надо, я же могу ее на телефон сфотографировать?
— Сколько угодно.
Воловских вытащил продолговатый кусочек бумаги. Да, действительно, счет. А на обратной стороне — надпись «Больше не хочу». Почерк... хотелось бы назвать его «твердым» или наоборот «дрожащим». Но он обычный. Самый обычный почерк. Белкин сфотографировал счет с обеих сторон.
— Я понимаю, как вы были огорчены, но давайте все выводы сделаем потом. Это ваша единственная ложь?
— Нет. Вторая заключалась в том, что я пообщался с его бывшей женой, хотя и довольно неподробно. Вы же спрашивали, обсуждал ли я его исчезновение с ней.
— Да, спрашивал. А тут почему вы скрыли правду?
— Вы бы, несомненно, решили, что у нас с ней сговор и мы просто убили Алешу.
Белкин непроизвольно хихикнул — Воловских говорил абсолютно всерьез.
— И последнее — я знал пароль от жесткого диска и без вас.
Этого философ тоже не ожидал, но и тут особо ошарашенным себя не почувствовал. На всякий случай решил помолчать — в очередной раз спрашивать «А зачем вы соврали?» ему не хотелось. Но и Воловских притих, поэтому Белкин зашел с другой стороны.
— Откуда же вам стал известен пароль?
— Я узнал его накануне вечером. Мы скандалили, обсуждали его мать, и он брякнул что-то вроде такого, мол, да что ты понимаешь в моих чувствах, у меня даже пароль «мама двадцать девять одиннадцать». Наверняка он бы его поменял, так как проговорился, но не успел. А когда я только принялся думать, кто мог бы рассеять мои страхи и сомнения, кто мог бы укрепить надежду, мысль о вас еще не появилась. Потом я стал чуть ли не на стиральной доске мочалить память, выуживая оттуда всех, кто был как-то связан с Алексеем. Вспомнил, что он писал диплом у кого-то очень умного и молодого. Далее выяснил ваше имя, навел справки. Мне сказали, что вы — человек отзывчивый, но очень скептически настроенный.
Белкин на мгновение возгордился внутренне, но тут же осадил сам себя.
— Справки-то где наводили? И кто меня так охарактеризовал?
— Ну, со справками у меня проблем нет. Я же из тех, — криво улыбнулся Воловских. — А уж своих информаторов мы никогда не сдаем.
Философ с неприятным ощущением отметил тревожно прозвучавшее «мы».
— Хорошо, а дальше?
— Я и подумал: если перед незнакомым человеком поставить задачу убедить меня, что мой сын — не самоубийца, что это всего лишь случай, стечение обстоятельств, а не его сознательное решение… человек может воспринять мою просьбу очень плохо. Наверняка вы забыли, но я в самом начале нашего первого разговора по телефону предложил вам оказать услугу Господу. Чуть не испортил все с самого начала — был не в себе. Так вот, требовалась вещественная задача. Чем конкретнее, тем лучше. Разгадать пароль — куда лучше! А к паролю мы бы пристегнули все прочее — как, собственно, и вышло. Но в целом из-за случившейся лжи я не очень себя корил, потому что я дал вам возможность заработать, и, по моему представлению, не самую маленькую сумму, — протараторил Воловских, как будто пытаясь себя убедить в этом. Он сидя наклонился вперед, словно пытаясь рассмотреть Белкина, но потом вдруг обмяк и распластался в кресле. — Простите меня, Борис Павлович.
Белкин, чувствуя себя все более и более уверенным, только хмыкнул.
— Так, а в ноутбуке-то что?
— Да ничего. Пустой. И отформатирован был за полгода до того — я вызвал специалиста, он все изучил. Алеша зачем-то таскал с собой ноутбук, который не использовал.
шестнадцатое
Пригласили в Сочи: дескать, приезжайте, Владимир Ефремович, посмотрите своих любимых летающих лыжников, а мы вам и билетик, и гостиничку, и пропуск оформим. А паспорт болельщика без вас для вас сделали еще полгода назад. Только приезжайте. Ну а я что? Сразу же и согласился. Понятно же, зачем я им там — наверняка приедет кто-то, кого надо на что-то уговорить. Я же всегда придумаю, как кого с кем связать, чтобы дело сладилось, — или кому на какие кары намекнуть, или кому какую манну обещать. Негодяи, все обо мне помнят! И даже паспорт болельщика сделали. Без меня меня паспортизировали! Но почему бы и нет? Дома все одно и то же, а так развлекусь немного. Да и прыжки с трамплина люблю. Как летают — любо-дорого всегда посмотреть.
Предложил Лешке вместе поехать — отказался наотрез. Хоть и Олимпиада, а ни в какую. И работа у него новая, и девочку очередную обхаживает, уже и не обхаживает, а облеживает вовсю, насколько я могу судить. Вообще он, кажется, восстановился после развода с Туманцевой. Никогда она мне не нравилась, но возражать ему я не мог. Понятно, на что сын клюнул, да и кто бы не клюнул на его месте! Я и сам железобетонно поддался бы. Лет сорок назад. Но теперича — не то что давеча. И поэтому я, только взглянув в глаза этой рыжей, все понял, и все предвидел, но, отлично осознавая, что никто никого никогда не слушает и всем нужны свои шишки, Алешку включая, — молчал. Молчал вначале, молчал в процессе и только в конце, когда однажды в семь утра Алексей материализовался у моей двери со своими вещами и мрачным взглядом, я позволил себе несколько жестких фраз о его умственных способностях. Как же банально, Господи, помилуй! Но язык вертелся сам. Без моего участия. Сын молча выслушал, однократно кивнул, потом прошел в свою комнату и лег спать. И больше мы с ним подобное не обсуждали.
Я видел, как он поначалу переживал. И мне до боли хотелось расспросить его, поддержать, посочувствовать — в конце концов, дать ему денег на что-то увеселительное. Возможностей ведь много — и почти все нам по карману. Но он не обращался ко мне. Он завел себе кредитку, которую вернейшим узлом привязал к моему счету, но использовал ее только когда заканчивались свои деньги и при этом тратил только на самое необходимое — еда, проезд, шмотки какие-то... А если хотел какого-то дорогого излишества — спрашивал меня. Помню, один раз утром с виноватой мордой стал извиняться, что снял в банкомате сразу тысячу. За тысячу рублей извинялся.
В Сочи я вылетал почти в полночь. Проснулся тем утром — Алеши уже не было, куда-то усвистал, хотя ночевал точно дома: еще в полусне я услышал, как хлопнула дверь. Днем одолели всякие дела, сборы, суета — он за весь день так и не объявился. Потом то одно, то другое... Только на следующее утро связались. Вот так и вышло, что я не видел и не слышал сына больше двух суток — и ничего о нем не знал, с ним могло бы произойти что угодно. Такого не случалось на моей памяти никогда. Каким-нибудь образом, хоть косвенным, но я получал от него весточку каждый день.
Тогда, в Сочи, я пожалел, что так и не купил себе смартфон, — товарищи мои, люди отнюдь не молодые, рассказывали о всяких мессенджерах (и показывали!), благодаря которым расстояния превращались в ничто. Надо было бы все-таки купить аппарат посовременнее и освоить его, решил я. И Алешка ведь предлагал не один раз — а я все отмахивался...
Во время одного из деловых обедов в «Розе Хуторе» нас представили лысоватому мужику, сидевшему на неприметном, совершенно не главенствующем месте за столом. «Знакомьтесь, это Анатолий Эдуардович, хозяин», — сказали они. «Хозяин чего?» — полюбопытствовал кто-то из нас, но не я. «Судеб», — подмигнул сам мужик, преобразившись, — улыбка его оказалась вполне приятной.
Хозяин судеб. Да если и судьбы — одной. «Возможно ли такое?» — подумалось мне тогда.
И сразу же вспомнилась фраза из сериала «Мастер и Маргарита» — дело, дескать, не в том, что человек смертен, а в том, что он неожиданно смертен. Саму книгу я так прочитать и не удосужился — в восьмидесятых было не до того, а потом уже как-то и не хотелось. Но фильм посмотрел.
Ведь и сам человек может решить судьбу свою.
«Эта секунда решила его участь» — классику, в отличие от всяких прочих, я прочесть и запомнить успел.
Получается, у жизни два хозяина: случай и сам человек. Двоевластие. И если с личным решением человека завязать со своей жизнью все более-менее понятно, то что включается в понятие случая? Ну да, любое несчастье. А теракт — который, по сути своей, убийство? Решение-то принимает другой человек.
И тут подумалось: а вдруг мы лишаем жизни других не прямо, а косвенно? Лично я точно никогда никого не приказывал ни убивать, ни калечить, ни сажать, ни запугивать. Много в чем придется раскаяться, много за что надо будет держать ответ, но в таком не повинен. Но кто его знает — увольнять-то доводилось. И кричать-распекать. Порой не совсем и по делу... Кто как реагировал — загадка. Я его уволил — а он пришел домой и помер, как чеховский Червяков. И вроде как не убивал я его, а в итоге убил. И не узнал об этом.
Алина.
Ее имя возникло само.
Жена. Первая — но почти во всех смыслах единственная. Мать Алеши.
Она умерла. Умерла, так как была беременна. А беременной она оказалась из-за меня. И Алеши. Получается, косвенно убили ее именно мы с ним. Косвенно — я. Прямо — Алешка, потому что Алина оказалась слишком миниатюрной и слабой для такого.
Вот так выводы!
Дойдя до этой мысли, я поспешно встал, ни перед кем не извиняясь, пулей выскочил наружу — холодно, но куртку не надевал. Вытащил телефон и позвонил сыну.
— Да, пап, — ответил его недовольный голос.
Ясно — раз такая интонация, значит не ко времени позвонил. Не дома, наверное. Или дома, но не один. А если и один: что, вот так в лоб его спрашивать, не чувствуешь ли ты, милый мальчик, вины за смерть никогда не виденной мамочки? Бросит трубку и обидится на год. Может, даже и поделом. Деликатной же формулировки экспромтом не подобрать. Надо бы вначале обдумать, а потом звонить...
— Просто хотел узнать, как твои дела.
— Ну, мы днем созванивались, ничего нового.
Но внезапно решился.
— Леша, я тут вдруг задумался, а ты не винишь меня в смерти мамы?
— Э-э... — Я его явно застал врасплох. — С чего бы мне вдруг тебя винить? Ты же не... э-э... она же сама...
— Но я подумал, ведь если бы она не забеременела, ничего бы не случилось.
— Что ты несешь? Если бы не забеременела, я бы не родился, начнем с того. А на такую жертву я не факт, что задним числом готов пойти. Но главное — слушай, ну вообще глупо себя винить в чем-то таком. Любая смерть есть следствие действий умершего. Я это понял совершенно четко и уже довольно давно.
— А если ты переходишь дорогу на зеленый, а в тебя врезается пьяный?
— Не надо было переходить там дорогу.
— То есть пьяный не виновен?
— Виновен, но он виновен в убийстве, в том, что совершил сам. А в умирании виноват умираемый — тоже в том, что совершил сам. Зачем поперся именно там на переход? Зачем не посмотрел по сторонам, хоть и зеленый? Зачем такой слабый и сразу помер?
Вот и поговорили.
В умирании виноват умираемый. Каков подлец, какие силлогизмы выдает, а?
По версии Алешки получается, что человек всегда, в любой ситуации хозяин своей судьбы. Даже если он просто едет в метро, а его взрывают, — виноват сам человек. Готов ли я такое принять?
Воскресенье
На воскресенье Белкин постановил себе навестить наконец бабушку с дедом. Решил твердо и абсолютно безотлагательно, потому что и так уже откладывал с конца весны, пропустил все лето, а тут и сентябрь перевалил за середину. Отец, когда собирался съездить к старикам, обыкновенно и его звал с собой, но у Белкина каждый раз именно в нужное время совершались какие-нибудь обстоятельства — то кафедра, то здоровье, то еще что. Да и в этот раз, конечно, надо бы ему определиться с Элли... предстояло выдумать предлог, чтобы увидеться с ней; сначала, понятно, созвониться; условиться как-нибудь о встрече; и уже не дистанционно, а лицом к лицу — постараться разговорить ее и выяснить, что именно она от него утаила. И почему. Но всеми хлопотами можно будет заняться, пожалуй, и на следующей неделе. В крайнем случае о первых пунктах плана подумать сегодня вечером, вечером.
Раннее бабье лето внимательными эпитетами подчеркивало сентябрьскую геометрию города: раскинувшееся над ним прозрачное, тонкое, свежее, безветренное утро; нанесенные легкими случайными мазками на сочную лазурь высокие перистые облака; немноголюдные улицы, проложенные сквозь обещание недолгого тепла и мягкий солнечный свет; размеренное дыхание времени, застывшее в камне домов, в чугунных узорах решеток, в протянутых между крышами и столбами росчерках проводов, — этот воскресный час казался Белкину описанием со страниц русской классической прозы. В отрочестве и юности, когда вся она, собственно, читалась, он обыкновенно пробегал глазами по диагонали подобные пейзажные фрагменты — дальше, дальше, к действию, к диалогам!.. — но сейчас, о, сейчас он был уже совсем другим читателем — зрителем! Что там действие, ему наоборот хотелось остановиться на каждом перекрестке, замереть на мгновение, как раскрытый затвор фотообъектива, чтобы навести резкость и вытянуть взгляд, и прожить целую долю секунды до щелчка, до смены человечков на светофоре — во всю глубину открывшейся перспективы.
Ближе к метро, впрочем, зыбкая магия старинного и странного очарования рассеивалась, и время настоящее, размеченное делами, задачами и заботами, вступало в свои неотчуждаемые права на муравьиную жизнь мегаполиса. Ехать Белкину предстояло до площади Александра Невского и оттуда — дождавшись 132-го автобуса, тут как повезет — еще минут двадцать без пробок до проспекта Металлистов, на Большеохтинское.
И дед, и бабушка не были коренными ленинградцами — приехали в город уже после войны. Дед учился в ЛИИЖТе, бабушка — в первом меде. Встретились однажды апрельским вечером в кинотеатре «Гигант» — он пришел с друзьями по общежитию, она в компании подружек — и с той встречи никогда в следующие почти полвека не расставались дольше, чем на неделю, как с гордостью рассказывал потом внуку Белкин-самый-старший. Изменило этому правилу лишь последнее их расставание: дед пережил бабушку Лиду на десять дней. И теперь они оставлены нами, живыми, в покое своем неизменном навечно вдвоем — недалеко, в пяти всего километрах от того места, где в юности повстречались впервые.
Белкину той давней печальной весной еще не исполнилось двадцати, но, хотя за прошедшие годы юности и зрелости он навещал родных нечасто, дорожку к ним через раскинувшийся тихими кварталами громадный некрополь, густо засеянный памятниками и теснящимися оградками, помнил твердо. Помогали в этом, конечно, и указатели с номерами участков, но больше он двигался по установленным для себя мнемотехническим якорькам неизменных здесь ориентиров. Вот Советская Александра Сергеевна, тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот девяносто первый, за нею вторая дорожка налево; Николай Николаевич Николаев, профессор-эндокринолог — отсюда третий по счету поворот направо; дальше прямо, прямо, где встречает, строго глядя на прохожего со старой портретной карточки, ровесница века Людмила Аркадьевна Воронцова; потом снова налево — мимо приметной тяжелой плиты черного мрамора («от командования Балтийского флота СССР») капитан-инженера первого ранга Игоря Яковлевича Гусева; мимо семьи Рогачевых — Ивана Владимировича, Дарьи Сергеевны, Никиты, Ани и Павлика, с одним памятником и общей второй датой на всех; после них еще полсотни метров прямо и там поворот направо, рядом с Оганесяном Анастасом Ашотовичем, кавалером ордена Славы, откуда было рукой подать до знакомой оградки.
Проходя мимо усвоенных давно ориентиров, Белкин едва заметным кивком, а то и простым взглядом шутливо благодарил этих неизвестных ему жителей прошлого века за участие и помощь, о которых вряд ли кто-то посторонний мог бы подозревать. Навещали белкинских здешних «знакомцев», наверное, не слишком часто, но так или иначе за два десятка лет повидал он — в основном на Троицу и на родительские субботы — родных-близких почти у всех из них, за исключением Рогачевых. Сегодня вот, когда Белкин проходил мимо, не в первый уже раз приметил на крохотной, но аккуратной скамеечке сидящую спиной к дорожке гостью у капитан-инженера первого ранга. В том году, вроде бы, какая-то родня Советской поминала свою историческую старушку. Еще ему крепко запомнилась темноволосая стройная девушка, видимо, внучка профессора Николаева, на фигуре которой даже в такой неподходящей обстановке белкинский взгляд непроизвольно, бывало, задерживался существенно дольше положенного.
Который раз на извилистом своем пути от кладбищенских ворот до могилы деда с бабушкой Белкин в фоновом режиме думал о давнем юношеском увлечении русскими космистами. Оно — по случаю или по внезапному внутреннему импульсу, точно он уже не помнил — пришлось примерно на то время, когда друг за другом в полторы недели покинули земную юдоль старшие члены семьи. С первоисточниками проблем не возникло, благо в девяностые подобная литература просилась в руки едва ли не с каждого книжного лотка. Он жадно работал, делая выписки, закладки, пометки, над томами Вернадского и Циолковского, увлеченно штудировал Николая Федорова, проглатывал современные исследования удивительной сей философии, мечтающей об эволюции человечества к бессмертию, едином космическом доме и воскресении мертвых, по касательной захватывая и связанную с ней беллетристику. Так, наткнулся как-то в те времена у знакомого букиниста на изданную в начале двадцатых небольшую, в полтора десятка страниц, «Поэму анабиоза» Александра Ярославского, напечатанную в каком-то фантасмагорическом издательстве «Комитета поэзии Биокосмистов-Имморталистов (Сев. группа)». Просили за нее по тогдашнему белкинскому карману дорого, и он скрепя сердце отказался, испросив, впрочем, разрешения прочитать книжку на руках, при хозяине. Вспомнилась та история лет пять, что ли, назад, когда на глаза ему попалось современное переиздание романа того самого биокосмиста-имморталиста Ярославского «Аргонавты вселенной». Белкин — хоть и с другим совсем образом мыслей, чем раньше, — книжку купил, прочитал и не пожалел: кроме хоть и слабого, но лихо закрученного романа в ней нашлись еще несколько декларативных стихотворений, а также биографии самого автора и его жены и верной спутницы — «невероятной женщины», как характеризовал ее биограф, — Евгении Ярославской-Маркон, поведавшие Белкину об их головокружительной и страшной короткой судьбе, завершившейся расстрелом обоих на Соловках в самом начале тридцатых, после того как была раскрыта затеянная ею подготовка к побегу мужа из лагеря.
Да, утопия космизма как нахлынула на Белкина тогда в середине девяностых эйфорической волной, так же быстро и схлынула. В какой-то момент он очень явственно вдруг осознал, что искусительная идея физического бессмертия неприметно уводит мысль в те эмпиреи, где витают сферические кони в вакууме и схоластические диспуты о числе ангелов, умещающихся на кончике иглы. Именно тогда за абстракцией «человечества» он, приглядевшись, кажется, заново разглядел «человека».
Тогда же, когда в конце прошлого столетия человечество развернулось от высоких грез о глубинах космоса в сторону нулей и единиц двоичных кодов, Белкин нашел (как шутил, «под ковриком») свой ключик к пониманию человеческой жизни.
Обо всем об этом размышлял он, стоя у невысокой белой плиты с выгравированными рукой кладбищенского мастера именами из далекого детства: БЕЛКИНЫ Михаил Спиридонович (16.10.1927 — 31.03.1995) Лидия Ивановна (10.02.1928 — 21.03.1995). «Разве муж и жена не един дух и едина плоть». Цитату из «Капитанской дочки» в качестве надписи выбрал отец, потому что, во-первых, дед очень ту повесть любил, а во-вторых, сказал отец тогда, так будет правильно, ведь нельзя нам их разделить — даже на Белкина и Белкину. Внук прибрался немного у могилы, выбросил засохшие цветы из пластиковой бутылки, постоял, вслушиваясь в непрозрачную, непохожую ни на какую другую на свете, кладбищенскую тишину, задумчиво разглядывая присущее только молодой осени игривое многообразие оттенков в вышитой солнечными золотыми нитями листве деревьев и кустарника — то самое живое смешение цветов, которое так любила в мире бабушка. Пришло время идти обратно.
Выйдя из ворот кладбища и перейдя дорогу к остановке, Белкин внезапно решил позвонить Элли. Размышляя о ней и об Алеше на обратном своем извилистом пути к выходу, он в каком-то озарении понял, как именно можно вывести ее на чистую воду: всего один вопрос, на который она ну наверняка не сможет дать внятного ответа... Его охватили такое трепетное нетерпение и такой обжигающий энтузиазм, что откладывать было совершенно невозможно — даже до дома, не говоря уж о том, чтобы до вечера, каким бы неразумным ни казалось звонить незнакомой женщине с подобными вопросами с улицы. Прямо здесь и только сейчас!
Усевшись на остановке в ожидании автобуса, он достал телефон (отцу бы не забыть еще позвонить, что навестил деда с бабушкой) и нашел сохраненный в прошлый раз номер. Усмехнулся тому, что так и назвал тогда контакт: «Элли». И легонько нажал на ее имя, приводя в действие магию современных технологий.
Когда он поднес телефон к уху, где-то очень близко вдруг заиграла мелодия вызова. Философ поднял глаза и увидел, что с перехода к остановке идет та женщина в легком желтом плащике, что сидела у памятника капитан-инженеру первого ранга... Ошеломленный, видя теперь навещавшую Игоря Яковлевича Гусева гостью в лицо, Белкин сразу узнал ее — ведь только на днях он разглядывал в Фейсбуке ее профиль.
А Элли достала свой смартфон из сумочки, взглянула на экран и — секунду поколебавшись — отключила звук вызова.
семнадцатое
Оглядываясь назад, с горечью понимаю, что большая часть жизни прожита абсолютно бесцельно и бесполезно.
Именно это предложение я записал в своем дневнике лет в десять или одиннадцать. Однажды сам факт такой фразы — конечно, дословно я ее не помнил — всплыл у меня в голове, и я рассказал о ней маме, когда приехал к ней в очередной раз. А она и говорит, указывая пальцем на верхнюю полку одного из шкафов: «Так поройся в коробках, я же архивист у тебя. Все там». Правда — она с непонятным мне упорством сохраняла все без исключения бумажки из моего детства и отрочества, объясняя свои привычки образованием историка-архивиста. Понемногу, постепенно вскрывалась ее правда — даже если практической пользы не наблюдалось, спрятанные ею мои листочки и тетрадки обретали страннейший, удивительнейший смысл — возвращали меня в те мысли, а они, в свою очередь, как будто дополняли меня, как песок заполняет пустоты в вазе, куда заранее вдоволь положили камней.
Я поперебирал содержимое маминых коробок на указанной полке и действительно отыскал тетрадь, где была лишь запись про бесцельность и бесполезность — одна фраза, дальше нее дневник не пошел. Жаль, год не указан — я написал только день, двадцать четвертое мая.
Вчера вечером приехала Фарида. И так мне стало хорошо, что я попросил ее не уезжать. И согласилась Фарида, и осталась у меня, и проговорили мы с ней глубоко за полночь. После всех уже случившихся встреч и перед пока что предполагающимися меня раздирало, я не мог молчать и, конечно, вывалил Фариде все. Последние дни я из уважения к Алеше клялся (самому себе) не болтать, как на военном плакате, но, давая клятву, я отлично понимал, что нарушу ее. И именно с Фаридой. Так и вышло.
Уж не знаю, какой я сын, друг, исполнитель поручений и любовник, но лектор я хороший: как-то сразу в голове возник план всей истории, прямо по пунктам, и я знал, где будут кульминационные точки, чтобы не рассказывать все и сразу, но и чтобы моя обнаженная слушательница не заскучала при не самых захватывающих подробностях. Свет мы не включали, поэтому глаз Фариды я не видел. Но смотрела она на меня не отрываясь.
Алеша Андреев. Воловских. Поначалу все так коротко и ясно: два человека, одна ситуация.
Елена. Внезапнейшая дополнительная линия в сюжете. Пришлось соврать: ранить Фариду, рассказывая, что вожделел рыжую не один год, нельзя. Просто подчеркнул, что знакомы.
Александр Близнецов. Александр Самуилович. Вера Хацкевич. Ее муж Близнецов. Гусева Эвелина Игоревна.
Хик Сволов!
Полина. Лина. Алина.
Кто все эти люди? Какие они? Как они себя вели с Алешей — те, что имели к нему прямое отношение? Как ведут себя теперь?
Сплетение лжи. Хитросплетение лжи. Расплетение лжи.
Десятки совпадений и до странности вовремя пришедших умозаключений. Может ли такое быть? При пересказе все действительно выглядит крайне неправдоподобно. Едва я начал очевидно последний пассаж, что-то типа «И вот я пытаюсь понять...», как Фарида кашлянула и молвила:
— История, конечно, полный караул. Я восхищаюсь, как ты все распутываешь, и ведь распутаешь, я верю, Рюсик мой сладкий. Но кое-что мне очень сильно бросилось в глаза.
— Что?
— Я уже поняла, что Алексей не был безумно яркой личностью. Но никто о нем не сказал ничего плохого. Либо ты не упомянул о таком.
Это высказывание меня потрясло. Так и есть! Фарида попала в точку!
— Никто. Все так и есть, — выдавил я из себя.
— Но я не могу представить такое. Ты общался с его близкими людьми. Общался откровенно и глубоко, не поверхностно. Столько людей, столько отношений, столько лет, столько ситуаций, а ведь все мы не из подарочного набора — наверняка они и конфликтовали, и склочничали. Может, что и похуже случалось. Но никто ничего не сказал. Ты можешь это объяснить?
— Нет. В эту секунду точно не могу. А ты?
— Тоже не могу.
— Я могу лишь предположить, что они все были так опечалены исчезновением Алеши, что не захотели очернять образ...
— Рюсик, давай другую версию.
— Но в чем он мог быть таким ужасным?
— Да не ужасным. А просто сделать что-то плохое или даже ужасное. Это разные вещи, понимаешь?
— Только в самых общих чертах — может, я устал просто.
— Например, можно напиться, накуриться травой, все что угодно с собой сделать и потом на взводе изнасиловать кого-то — жуткий поступок, за который вполне нормально сесть в тюрьму. В сделанном можно раскаяться, и тогда поступок останется навсегда таким, но сам человек не будет таким же страшным. А вот если человек насилует кого-то постоянно, он ужасный сам по себе, не только его дела.
— Теперь понял. Классификация правильная. Но очень нехороший пример ты привела, — заметил я.
— Твой юноша не мог всю жизнь оставаться таким безликим, но положительным. Хотя, конечно, я надеюсь, что таких вещей он не творил. Просто насилие стало такой актуальной темой, сам знаешь, вот я вся изнервничалась, ни о чем другом думать не могу...
— Почему?
— Да что я буду о своем, у тебя тут вон какой детектив.
Но я чувствовал, что она хочет поделиться. Да и в конце концов почему нет — я так редко ее выслушивал.
— Расскажи.
И она послушно начала. Уговаривать больше не пришлось.
— Понимаешь, Рюсик, просто в самый первый раз меня как раз того...
— Что?
— Ну, как... изнасиловали тоже.
— Господи! Как, кто?
— Не важно. В мои шестнадцать. В гостях у кого-то засиделась. Набросились двое.
— Двое?!
— Да. Было нестрашно и почти не больно. Было стыдно, что взрослые мальчики настолько плохи, что добровольно с ними никто не хочет. Я как будто взлетела надо всем этим и смотрела сверху. Я жалела их. Они выглядели омерзительно. А я осталась прекрасной. Потом, долгие годы, мне казалось, что мужчины не стоят ни одного сокращения ни единого моего мускула. Мужчины тупые, примитивные, им не нужен мир, полный прекрасных запахов, цвета, слов, ощущений. И лишь потом, много потом я поняла, что во всем виноваты женщины. Они разучились уважать мужчин. Не любить, а уважать. Видеть в них настоящее. Женщины разучились. Бедные мальчики! Кто только их ни унижал, начиная от нянек в садике, заканчивая озлобленными училками, которые публично указывали на их ошибки. Кто после такого будет лелеять девочку? Только тот, кто любит маму. А таких единицы. Наше мироустройство порождает мучеников и мучимых. Жаль, что у меня не хватит сил это высказать в интернете. Извини, выйду.
Фарида прошлепала в ванную, долго там умывалась.
— Алешу твоего любили? — спросила она, снова устроившись под одеялом.
— Мне кажется, кто-то точно да, кто-то точно нет. Как и всех нас, как и все мы.
— И уважали?
— Уважа-али, — повторил я. — Отличный вопрос. После того, что я наслушался и наузнавался, меня начали терзать сомнения.
— Может, это важно? В твоей истории.
— Может...
Общество рождает мучеников. Лелеет девочку только тот, кто любит маму. Алеша не любил маму, потому что нельзя любить несуществующего человека. Даже в любви к кинозвездам больше толка, потому что они постоянно перед глазами — то новый фильм, то интервью какое-нибудь. А жизнь Алины Андреевой закончилось вместе с началом жизни ее сына. Фотография-то осталась, интересно? Хотя бы одна?
В рассказах Елены и Веры об Алеше я, в самом деле, не слышал уважения. Жалость, обида, злость, порой восхищение... Но уважение? Нет. Вероятно, его отсутствие — следствие простого незнания, что делать с женщиной — не в постели, а в голове. Алина, зачем ты так поступила с собой?
Хотя разве могли бы они оставаться с ним, если бы он был мерзавцем? Жутким злодеем? Такая женщина, как Туманцева, мне кажется, никогда в жизни не будет сочувствовать преступнику, не из Стокгольма она, ей до Стокгольма десять часов лету. В Вере, конечно, виктимности в разы больше, но и отношения их продлились всего чуть-чуть — вряд ли она успела попасть под его влияние, если бы что-то произошло, она бы не промолчала...
В теории можно проверить и написать Вере, позвонить Елене, и в голове уже сами собой заскрипели шестеренки, придумывая хитрую формулировку вопроса, но я остановил их движение: я не хочу никому звонить. Я ни с кем из них больше не буду общаться.
В конце концов, вся история окончится именно так, как я решу. Всей истории хозяин — я. И я решаю ничего дополнительного не выяснять.
«Алешка ты, Алешка». Строчки из какой песни? Или стихотворения? Что-то военное, кажется. Без интернета не вспомнить, позор-то какой. Бедный Алешка, нерадивый ты мой ученик. Я ведь и правда не верю, что ты жив. О чем ты думал в последнюю секунду? А за минуту до? Какой ты счел тогда свою жизнь — полезной или бесполезной, цельной или бесцельной? Оглядывался ли ты назад в свои тридцать три, как я оглядывался в свои десять? Да, конечно же, оглядывался. И переживал, и клял себя.
И наверняка ведь сто тысяч раз фантазировал, как же все могло обернуться, если бы Алина, твоя мама, не ушла так рано, так невыносимо рано.
Но готов поставить на кон что угодно: ты боялся даже подумать, что твоя жизнь, не бог весть какая достойная, но по крайней мере тихая, сытая и застрахованная, могла бы пойти совсем иначе, если бы ты воспитывался в полной семье. И ты терялся в догадках, не знал, не мог вообразить, хоть и боялся себе признаться, зачем тебе она, мама то есть, как тебе пришлось бы с ней общаться, что тебе делать с этим сокровищем, которым обладает почти каждый человек в мире, почти каждый, но не ты. Не знал.
Как не знаю и я, что мне делать с бесценными никому не нужными архивами своей мамы.
Недоверие американца
В самый неподходящий момент проявился Даркман. Он вообще постоянно ухитрялся звонить и писать не ко времени, Белкин к такому давно привык. «Борис привет, я бы хотел общаться сейчас, сообщи если согласен», — написал по-русски Дан, и Белкин, в каком бы ни был отвлеченном состоянии, чуть усмехнулся: в письмах с запятыми у Даркмана дела обстояли несколько лучше, чем у профессионального редактора Фариды. «Дан, прости, я плохо себя чувствую, но немного поговорить рад», — ответил Белкин.
Тот незамедлительно позвонил. И, как всегда, сразу по видеосвязи, не уточнив, хочет ли этого Белкин (а он никогда не хотел).
— Привет, Борис!
— Здорово.
Даркман выглядел как всегда: невозмутимый, выбритый, с идеальной прической, в очках с тонкой оправой — совершенный образ, впрочем, без американской улыбки. Даркман вообще не улыбался.
Каждый раз, и нынешний не стал исключением, Белкин интересовался, где территориально находится его друг. Берлин Берлином, но Даркман пребывал в постоянном осуществлении своего Проекта — он сам, когда упоминал его в сообщениях, писал это слово с прописной буквы — у него было не поддающееся стороннему подсчету количество детей, причем все принципиально от разных женщин, в разных городах и отнюдь не в одной и той же стране (но все в Европе, Россию включая; в Америку с подобной целью он не наведывался).
— Я в Вестерланде, — сообщил Дан.
— Это где? — полюбопытствовал Белкин.
— Остров Зюльт, север Германии.
— У тебя там ребенок?
— Да, мальчик недавно родился, Андрей. Как у тебя дела?
— Все хорошо, немного занят, и голова очень болит, — молвил философ.
— Как ты и Фарида? — задал Даркман дежурный вопрос. Ударение в именах он не выучит никогда, наверное.
— Все по-прежнему. Слушай, — вдруг вдохновился Белкин, — у меня есть вопрос. Я тут общаюсь с одной женщиной, но никак не могу ее раскусить.
— Раскусить? — спросил Даркман, не поняв выражения.
— Ну, понять, изучить.
— А! Хорошо. У вас есть секс?
— Нет, это другое.
— Любовь?
— Тоже нет. Понимаешь, мне надо разгадать загадку. Пропал человек, и я хочу расследовать, что с ним случилось. Замешаны многие, она в том числе. Но все остальные мне совершенно понятны, а она нет.
— Ты хочешь, чтобы я узнал твою историю?
— Нет, я бы хотел, чтобы ты взглянул на нее и немного помог мне, я кое-что хочу спросить.
— О! Да, я могу. Ты присылаешь мне адрес ее страницы?
— Да, шлю. Вот... Смотри.
— Секунда... Да, вижу. Эвелына Гусева.
— Как ты думаешь, она замужем?
— Хм... — Даркман защелкал мышью, просматривая немногочисленные фотографии Элли. — Нет. Она абсолютно не замужем. Может быть, только бумажно, понимаешь?
— Только на бумаге?
— Да, но я не верю. У нее никого нет.
Белкин задумался.
— Она сказала, что замужем.
— Тебе сказала?
— Да, мне.
— Она хотела, чтобы именно ты так думал. Она тебе понравилась, но ты хочешь что-то узнать, а она не хочет, чтобы ты знал это. Если ты будешь с ней, потому что ты можешь, ты скоро будешь знать все, а она не хочет.
— Дан, с чего ты взял, что она мне понравилась?
— Бо-орис, — укоризненно протянул Дан, — ну зачем ты делаешь вид, что ты белый и пушистый зверек?
Иногда Даркман поражал знанием русских пословиц и их оригинальными интерпретациями.
— Дан, честное слово, я всего лишь хотел у нее кое-что узнать.
— Я верю тебе! Но одно может быть с другим!
— Хорошо, тогда еще вопрос, последний. Она может врать?
— Она тебе врала уже!
— Нет, я имею в виду другое...
— Я не понимаю, извини.
— Она говорит, что мало что знает и помнит о том человеке, которого я ищу. Мне кажется, это неправда. Я же философ, я должен во всем сомневаться. Но вдруг она не обманула меня?
— Я не знаю, но я не хочу ей доверять, понимаешь, Борис?
— Понимаю.
— Я хочу тебе кое-что сказать важное, но на английском, так будет быстрее, ты не против?
— Конечно, давай.
Белкин кивнул. Сам он по-английски говорил так себе, но на слух понимал почти все.
— Ты хочешь добиться от нее правды в деле, которое тебя интересует и которое ты считаешь важным. Ты считаешь, что она может врать, и у тебя есть все основания. А я готов поспорить на что угодно, что она одинока, у нее нет партнера, хотя тебе она сообщила нечто совсем другое. Я сужу об этом на основании своего опыта. Но! С чего ты взял, что она считает твое дело таким же важным? С чего ты решил, что она доверяет тебе? Ты говоришь, что ты философ и во всем сомневаешься. Ты, конечно, философ. Но вдруг она тоже философ? И так же сомневается в твоих словах? И в твоей мотивации?
— Дан, мы старые друзья, ты много знаешь обо мне. Я тебя не обманываю. Для себя самого я знаю, что прав, — проговорил Белкин по-английски.
— Я не сомневаюсь, что ты меня не обманываешь. Но я просто предлагаю тебе поставить себя на ее место. Вдруг в ее жизни возникает мужчина на несколько лет моложе, который явно ей симпатизирует, который ей тоже нравится, но который расспрашивает ее о том, что ей неприятно. Может быть, даже физически неприятно. А если между ними произошло то, что она хотела бы навсегда забыть?
Это Белкину в голову не приходило.
— Вряд ли, — ответил философ. — Она старше его лет на двадцать.
— О! — искренне удивился Даркман.
— Да, это ученик и учительница.
— Как все сложно, е-мое, — покачал головой американец, снова перейдя на русский. «Е-мое» и прочие ругательства в его исполнении звучали до крайности трогательно и нежно. — Борис, я поддерживаю тебя. Тем не менее, мне кажется, что ты должен думать и так. Эта сторона является важной.
— Я попробую. Кстати, ты в Россию не собираешься?..
Они еще немного поговорили о всяких пустяках, и Даркман отключился.
Белкин в крайнем смущении начал ходить по квартире. Доказывать Даркману, что он неверно догадался о его, Белкина, чувствах в отношении Гусевой Эвелины Игоревны, смысла не имело: Даркман, даром что спокойный, как дохлый слон, был непереубеждаем. Самому себе философ мог легко сказать: Даркман ошибся. Но признаться себе же в том, что Дан подал ему прекрасную идею — посмотреть на Элли как на женщину, — оказалось до крайности тяжело.
Хотя он ведь до сих пор пытается стать Алешей.
А это значит...
Алеша влюбился в Элли как подросток. Какой бред: что значит «как»? А кем он был в те годы?
«Но любит ли Вяльцева доктора?» — как спросил Бродский. Замечала ли Элли Алешу — вот вопрос.
Пожалуй, пора, совсем-совсем пора всеми правдами и неправдами на нее посмотреть. На Элли. Вот завтра после Большеохтинского сразу и попробую позвонить, а там уж как получится.
восемнадцатое
— Вы что, за мной следите?
И ведь она задала вопрос на полном серьезе, так что меня просто подмывало ответить утвердительно — только чтобы увидеть реакцию Элли. Собственно, вся сцена с самого начала получилась очень киногеничной.
Вот я сижу, ищу номер ее, прокручивая контакты, жму на имя в списке, подношу телефон. И сей же миг за кадром, слева от меня, словно по неслышному щелчку постановщика, начинает играть сигнал вызова — незамысловатое какое-то стандартное треньканье. Камера поворачивается в ту сторону, и мы видим, как женщина в желтом плаще идет к остановке и на ходу достает из сумочки звонящий телефон. Смотрит секунду-другую на экран, раздумывая; переключает рычажок громкости на беззвучный и убирает обратно. Ракурс смещается назад, мне за спину, и зритель видит, как я ошеломленно встаю и делаю несколько шагов ей навстречу; она поднимает на меня глаза. Все вдруг сходится сейчас в моей голове и в этом воображаемом кадре: «я родилась в Латвии, отец служил там»; Гусева; «дом наш носило ветрами от одного гарнизона к другому»; капитан-инженер первого ранга; все правильно, Игорь Гусев; «от командования Балтийского флота СССР»; капитанская дочка; как я сразу не вспомнил, там, на кладбищенской дорожке; имя-то не забыть, только вот с отчеством память часто пролетает; девочка выросла и стала учительницей, русский и литература... Невидимый мой кинооператор все еще с нами, и лицо женщины — крупным планом в кадре, ухоженное, хотя и почти без косметики, — меняется, когда я говорю:
— Эл... Эвелина Игоревна, здравствуйте!
Словно воздушной кистью наносят на него один за другим легкие мимические штрихи: сначала удивление, припоминание: кто я, собственно, такой и откуда мы можем быть знакомы. Затем недоумение, сомнение, когда я тут же — перехватывая ее уже зарождающийся в глубине сознания вопрос — быстро добавляю:
— Моя фамилия Белкин. Борис Павлович Белкин. Помните, мы говорили с вами по телефону о вашем ученике, об Алеше Андрееве?
Она посмотрела на меня подозрительно, кивнула, что да, видимо, припоминает, и спросила без тени иронии:
— Вы что, за мной следите?
Серьезность ее вопроса, так, повторюсь, позабавила меня в ту минуту, что я было подумал, не представить ли мне нашу встречу на остановке у кладбища результатом моей кропотливой оперативно-розыскной работы... Но решил, что градус серьезности, пожалуй, удержать не смогу и непременно выдам себя смешком. К тому же — коль скоро судьба оказалась столь изобретательной в своих хитросплетениях и нитях — мне необходимо воспользоваться случаем.
— У меня тоже здесь родные, — сказал я, кивком указав в сторону кладбища, — бабушка с дедом.
— Поня-атно... — Она придирчиво оглядывала меня, будто желая удостовериться, что я взаправду тот самый Белкин, с которым она разговаривала как-то вечером по телефону, а не пронырливый приблудный самозванец. — Но все равно, конечно, очень странно.
— Да, — подтвердил я. — И даже еще более странно, чем вам сейчас кажется. Дело в том, что дорожку к своим я обычно припоминаю по нескольким ориентирам — могилам, памятникам... и один из таких моих ориентиров — как раз капитан-инженер Гусев, ваш... отец, правильно?
— Да, это мой папа.
— Так вот, оказывается, я как-то вас видел за то время, что бываю здесь, пусть и не слишком часто бываю. Запомнил, потому что на вас косынка была тогда, такая же, какую мама моя носила. И сегодня тоже видел, когда шел туда, как вы сидели на скамеечке. Но раньше-то я, разумеется, понятия не имел никакого, кто вы, что вы; ну а сегодня вот, похоже, просто в голове не сошлось. Ваши фамилия и отчество — и здешние, отца вашего, не соотнеслись совершенно, как если бы в разных комнатах фрагменты лежали: разговор наш с вами телефонный, вся история об Андрееве — в одной, а кладбищенские мои напоминания и воспоминания — в другой.
— В разных комнатах на разных этажах. — Она впервые слегка улыбнулась.
Улыбка почему-то делала ее старше. Я подумал, что ей, пожалуй, уже за пятьдесят, то есть лет десять, получается, разницы у нас. С Алешей, значит, было двадцать или около того.
— Так это вы мне только что звонили? — спросила она.
— Я. По звонку вот вас и опознал нечаянно.
— Что же, видите, дозвонились, я здесь лично. Слушаю вас.
Я все смотрел на нее и думал, что же именно в ней такое? Сдержанность, дистанция — что они? Позиция педагога, в которую она, начинавшая, кстати, скорее всего, еще в советской школе, за три десятка гимназических лет вросла всей собою? Или обыкновенное, человеческое, женское одиночество — в котором чем дальше, тем больше незнакомые люди воспринимаются как чужие, практически без возможностей для сближения? Даркман-то ведь, похоже, оказался прав, теперь и я уверился почти безоговорочно, что она не была замужем — сейчас точно, а может, и вообще никогда. Или же, в конце концов, просто свойство характера? — дочь морского офицера, гарнизонное закрытое детство, в семье дисциплина с младых ногтей; потом девочка Элли выросла и стала волшеб... то есть учительницей, а требовательность к себе и к окружающим стала получать ежедневную бюрократическую подпитку — четверть за четвертью, год за годом: дневники, журнал, отчеты, педсоветы, мероприятия... Какой она учитель, кстати, интересно?
— Эвелина Игоревна...
— Если хотите, просто Эвелина, — перебила она, одним легким движением ладони колебля фундамент под всеми тремя стройными теориями о происхождении ее строгости. — Мы же с вами не в классе.
— Да, хорошо. Вы не спешите? Мне хотелось бы, Эвелина, вернуться к нашему с вами разговору об Алеше, да и просто угостить вас кофе, коль скоро судьба подарила нам такую странную встречу сегодня. Тут недалеко, я помню, есть кафе с хорошим кофе. Не тот ширпотреб, что в нынешних сетевых кофейнях делают. Я прежде там несколько раз бывал и надеюсь, что оно не закрылось... Как вы, будете благосклонны?
— Ну, об Андрееве я вам, что помнила, тогда уже все рассказала...
«Однако это далеко не факт», — подумал я, ожидая окончания фразы.
— ...но от хорошего капучино я не откажусь, — продолжила она. — Если вы приглашаете; да и час-другой у меня еще есть.
И мы отправились в «Эльсинор». Я действительно пару-тройку раз посещал его прежде, заходил пообедать как раз после поездок на Большеохтинское, и насчет тамошнего кофе ничуть не слукавил. Подумал о том, что она могла бы и отказаться, сославшись на завтрашний учебный день, на отсутствие настроения, да вообще на что угодно; но, мне кажется, любопытство в ней пересилило. Она же понимала, что я это все затеял не просто так, и ей было интересно узнать, что же я выведал. Что бы она ни говорила мне и в прошлый раз, и нынче, но она совершенно точно помнила Алешу гораздо лучше, чем пыталась изобразить.
Пока мы шли, Элли спросила, знаю ли я, кстати, что на Большеохтинском похоронены также и Малиновский — первый директор Лицея и отец пушкинского однокашника, и профессор Куницын, главный любимец первого выпуска.
— «Он создал нас, он воспитал наш пламень», «И мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием меж царственных гостей», — едва ли не каждую лицейскую годовщину Пушкин его поминал добрым словом.
О Малиновском я, кстати, знал, а вот Куницын оказался для меня сюрпризом. Я признался, что его могилы никогда не видел.
— Я тоже не видела, — ответила она, — но сведения такие есть.
Потом вспомнила, как лицеисты присутствовали здесь на похоронах своего директора в начале апреля четырнадцатого года.
— Там вот, где мы с вами встретились сегодня, там они прощались, пять человек их курса, со своим директором; а Саша Пушкин и Ваня Малиновский потом у могилы поклялись друг другу в вечной дружбе.
Мы дошли тем временем до кафе, расположенного за спиной у смотрящего на набережную Охты Петра Великого, чей бюст установлен здесь, как сообщает надпись, «благодарными охтянами». Я заказал ей капучино, а себе американо (рассказав к случаю историю, как собственными глазами видел прошедшим летом в торговом центре наклейку на кофейном автомате рядом с одной из кнопок: «кофе Крымский (бывш. Американо)»), и мы сели на летней веранде — с видом на крохотный садик и тяжелый императорский затылок.
— О чем вы хотели со мной поговорить? — спросила Элли. — Ведь вы, кажется, проводили какое-то частное расследование, я правильно помню?
Это было как удар на вдохе, а я, видимо, расслабился, так что едва не фыркнул, очень она убедительно играла! Уж в чем в чем, а тут женщины ну совершенно не меняются: что в пятнадцать лет, что в двадцать пять, что в пятьдесят, — в готовности играть самую невероятную роль. Сейчас она поставила себя очень по-сериальному, таким умным и проницательным свидетелем, который, к искреннему своему сожалению, ничем не может помочь честному, но простоватому сыщику с точки зрения каких-то сведений о происшествии, однако способен ухватить некие тонкие нити, увидеть глубже и понять дальше нашего простака героя. Я опять представил камеру, держащую ее собранное серьезное лицо, добрый, спокойный и всепонимающий взгляд... В эту минуту официант принес наш кофе, что дало мне время помолчать, совершить передышку и сглотнуть попавшую в рот смешинку.
— Понимаете, Эвелина, — сказал я, — я не веду никакого расследования. Оно за пределами моей компетенции в каком бы то ни было смысле. Серьезно, я очень далек от разного рода детективов, дедукций, индукций. История Алеши, в которой я пытаюсь разобраться... это для меня, скорее, личное дело. Теперь, во всяком случае, — личное. Его отец, я рассказывал вам, обратился ко мне — что оказалось полной неожиданностью — с тем, чтобы помочь в составлении психологического портрета сына. Хотя бы эскиза, наброска — если не целостного портрета, да? Я не искал истины, только вероятностного знания — кстати, к вопросу об индукции. Передо мной стояла конкретная задача, которую поставил его отец, в отношении Алеши и его прошлого — и я нашел решение. И решение оказалось правильным. Казалось бы, вот и все... Всем сестрам по серьгам, и разошлись, как в море корабли, — что еще в таких случаях говорят?
Она внимательно слушала, не перебивая, ожидая, видимо, куда нас с нею выведут мои речи. Что ж, нам предстояло узнать это вместе. Глоток кофе.
— Однако поиск решения оказался непростым, он потребовал от меня серьезных усилий и... — Я поискал нужные слова, они оказались недалеко. — Сложилось так, что мое исследование ничего не изменило: Алешин отец получил от меня ключ, но за дверью от этого ключа оказалась пустая комната. По крайней мере пустая для отца. И вместе с тем само исследование изменило все, такой вот парадокс. Потому что оно изменило — меня. Мне пришлось писать дневник Алеши...
На лице Элли проступило недоумение, и брови уже поднимались к вопросу, но я его упредил:
— …воображаемый дневник, конечно. Дневник, который он мог бы написать. День за днем в августе — до самого дня его исчезновения. И я немного врос в его шкуру. Так что теперь я не могу взять вот просто и вышагнуть из нее, из него, не получается. Отныне я тоже живу этим, и я хочу дальше.
Я помолчал. Тактически мне казалось верным, чтобы здесь она включилась в разговор. «Чего же вы хотите дальше?» — должна была она спросить, что-то такое. Но Элли молчала.
— Я ищу понимания, понимаете? — Пришлось тавтологично отвечать на незаданный вопрос. — Я хочу понять другого человека, Алексея Андреева, вашего ученика. И моего ученика. А еще — понять, почему в прошлый раз вы не сказали мне правды.
Здесь стояла твердая точка. И цезура. Очень короткая пауза длиной ровно в столько, чтобы она успела начать:
— А почему вы…
Но не дольше.
— Да потому что это так. — Я поднял ладонь, предупреждая, что продолжать врать вообще не стоит. — Я не помню, как в оригинале по-итальянски, но у них есть такая замечательная пословица, которая на русский переводится примерно вроде того: у лжей короткие ножки. Потому что вы преподаете русский и литературу, Эвелина Игоревна. И вы — классный руководитель. И один-единственный ученик из вашего класса поступает на филфак, на русскую филологию, кстати, не на классику, не на романо- какую-нибудь германскую. И ученик этот — мальчик. И мальчик в вас, несомненно, влюблен. Я смотрю на вас его глазами и вижу более чем явственно. Разумеется, вы не можете не понимать его чувств, не можете их не разглядеть. И уж, конечно, вы не забудете любившего вас мальчика каких-то полтора десятка лет спустя, так, чтобы сказать: «в нем не было ничего особенного, я ничего о нем не помню». Так не бывает — в принципе, совсем, то есть никогда. Эдакая вот, получается, дедукция. Все правильно?
— А что, по-вашему, я могла ответить по телефону совершенно незнакомому человеку что-то другое? — спокойно спросила она. — К тому же я и не обманула вас: он действительно был мальчиком ординарным, без... не то чтобы вообще бесталанным, нет, способным, но — с приглушенной яркостью, без искры какой-то, без воздуха под крылом. Написать, например, сочинение по Толкину, озаглавив «JRRT как тетраграмматон»; или, помню, я задавала им как-то домашнее сочинение «Пушкин в моей жизни» — и знаете, одна из Алешиных одноклассниц принесла тогда и читала на уроке вслух свое эссе о том, как в ее семье хранится вот уже сто семьдесят лет и передается из поколения в поколение бесценная реликвия — платочек с засохшими соплями Пушкина; гогочущий класс меня тогда едва не до слез довел, так что я просто ушла с урока; потом приходили извиняться они, конечно, в учительскую, да и я сама подуспокоилась — не оценить пусть и грубую, да, дерзкую, да, но оригинальность той выходки было невозможно; или в одиннадцатом классе, помню, устроили они дискуссию: «Пароход современности или Ноев ковчег?», — так вот, в общем, все сказанное — как раз именно что не о нем, а всегда о других ребятах. С возрастом начинаешь как-то по-особенному замечать в чужой юности широту жизненного жеста, она очень притягательна. Однако ничего такого в нем не было как раз, он казался способным усваивать то, что дают, но не брать — сам, по своему праву. Трудно объяснить точнее, вы понимаете, о чем я?..
— Понимаю. Человек не в фокусе?
— Да-да, вы правы, размытая резкость на фото... — Элли кивнула. — Когда он объявил, что собирается поступать на филфак, после зимних каникул в десятом классе, я занималась с ним потом полтора последних года дополнительно, оформила все как спецкурс по русской литературе девятнадцатого и начала двадцатого веков. Но даже и при этом он не шел среди первых в классе по моим предметам. На уроках многие проявляли себя интереснее. Дело не в уме, умом его не обделили, но вот ум по складу своему был... вторичен, что ли. Он не любил быть тем, кто говорит, — только тем, кто толкует уже сказанное другими.
— Разве не все филологи занимаются тем же самым? Подобным толкованием сказанного другими?
— Вы это серьезно? — Она посмотрела на меня с подозрением.
— Ладно, ладно. — Я примирительно поднял руки. — Простите, что перебиваю.
— И еще... он был очень одинок. Мне кажется, он всегда был очень одинок. Не совершенно «белая ворона», конечно, но в классе ни с кем близко не сходился. Так, чтобы вот дружить по-настоящему. Между уроками очень редко когда к той или другой компании прибьется. Во внеучебное время, насколько я знаю, — тоже. И в семье ведь он один?
— Да, — ответил я. — Отец воспитывал его без матери, она умерла при родах.
— Да, вы говорили, но я, видимо, не знала. Хотя как я могла не знать? Забыла, значит... И ощущение неполноты какой-то меня не покидает, когда я вспоминаю Алешу, — он не мог найти себе рифмы, никакой, даже неточной. Разве не странно — будто бы слово, у которого нет ни одной рифмы?
Элли замолчала. Я отхлебнул остывшего кофе и подумал, как лучше сформулировать еще один вопрос, который у меня к ней оставался.
— Как вы думаете, Эвелина, если Алешино исчезновение — его самого рук дело... ну, я нарочно избегаю какого-то решительного и однозначного слова, что именно там произошло... если предположить подобное, почему он мог на такое пойти?
— Я не знаю, почему, — просто произнесла она. — А возможно, это не так уж и важно.
— В каком смысле? — удивился я. — Что никакие наши размышления его не вернут?..
— Конечно, да, тут вы правы, но я имела в виду другое. Мне вот сейчас пришло в голову, а что если задать вопрос не «почему?», а «зачем?» — то есть зачем он это сделал? Если мы принимаем, что... как вы там сказали: случившееся — именно его рук дело, а не просто несчастный случай? Так вот. Представьте, что вы, глядя снаружи, воспринимаете собственную жизнь и собственную судьбу как текст, биографию. Конечный смысл любого текста за пределами того, чтобы быть написанным, — также быть и прочитанным. Вместе с тем, рассуждая ясно и глядя трезво на собственные способности, вы видите, что вы, скажем так, человек немногих дарований и, вообще говоря, само ваше существование и его подробности мало кому — да никому вообще не! — интересны. Можно, разумеется, совершить нечто чрезвычайное — стать героем, ну, или, наоборот, негодяем. Устроить некую громкую акцию или совершить какое-то великолепное самопожертвование. Но ни то, ни другое не кажется вам подходящим — просто по природе характера. В вашей сегодняшней жизни нет места подвигу, а совершить какое-то громкое, для СМИ, деяние, с непременной трансляцией на ютубе — ну, не ваше это просто, и все. Однако, кое-что вы можете — оставить за собой загадку, тайну, которая, возможно — возможно!.. — привлечет чье-то внимание к вашей среднестатистической персоне и заставит внимательнее взглянуть на вашу жизнь. Мне кажется, что исчезновение — как раз такой знак, своеобразное «приглашение к биографии». — Тут она изобразила пальцами в воздухе значки кавычек. — Оно не адресовано никому конкретно — хотя, можно допустить, Алеша предполагал родителей… точнее, я опять забыла, отца как адресата — по крайней мере, первого адресата — своего приглашения. Это, знаете, как «письмо в бутылке, брошенное в океан» у Мандельштама — в статье «О собеседнике» он употребляет такую метафору, когда говорит о стихотворении, которое, безусловно, имеет адресата, но не какого-то конкретного. «Оно — того, кто нашел его», как-то так мысль у Мандельштама звучит. И исчезновение, и стоящая за ним тайна, и сам Алеша — того, кто нашел его. То есть теперь он — ваш.
Я завороженно слушал версию Элли и думал о том, что Даркман прав и в такую запросто можно влюбиться, запросто: и Алеше, и мне-Алеше, и мне. И как, должно быть, повезло с ней ее ученикам. Как минимум, версия выглядела очень элегантно и красиво... правда, действительность, по моему опыту, чаще оказывалась куда более прямолинейной и незамысловатой.
— И цели своей — привлечь внимание к себе, к тексту своей жизни — он, как мы с вами видим, добился. Но и это не все. — Оказывается, и тут пока еще не все, и она продолжила. — Потому что здесь важен не только его ход, но и ваш ответ на него. Ведь вам пришлось ознакомиться с его биографией, вы пытались стать им самим — с дневником его, как вы говорите, а в чем-то, вероятно, и додумать дальше него, вообразить. И значит, вы становитесь не только «читателем» его судьбы, не только собеседником, но и соучастником, соавтором, я бы так назвала... Понимаете? вот зачем он это сделал!
Уже по дороге к метро я спросил у Элли, встречала ли она Алексея после того, как он окончил школу. «Один раз», — ответила.
— Хотите верьте, хотите нет — после выпускного всего только один раз за — сколько там получается — шестнадцать лет. Нынешним летом, в конце июня, числа уж не вспомню, конечно. Ни с того ни с сего Алеша пришел вдруг ко мне в школу. Посидели с ним в учительской, чаю попили, он вернул книжку мне, которую в выпускном ли, в десятом ли классе брал, сборник стихов Дениса Новикова; я и думать о ней забыла за столько лет. О чем говорили? Как ни странно — о болдинской осени. Еще одна книжка у него с собой была — он взял мне показать, поделиться или похвалиться; сказал, купил с полгода назад у букиниста. Ну как книжка — брошюра в полтора десятка, около того, страниц. «Объявление Министерства внутренних дел о признаках холеры, способах предохранения от оной и ея врачевания». Самым замечательным в ней не признаки оной и не рекомендации, конечно, оказались, а год издания — 1830-й. Понимаете? Держишь в руках листки, и чувство такое, будто запечатанный конверт из той самой осени...
Элли помолчала. Кажется, для нее это действительно было чем-то необыкновенным.
— Он тогда, помню, с восхищением даже каким-то завистливым, что ли, говорил о том, как у Пушкина нечеловечески ловко получалось — в самые непростые периоды полной отлученности от всего, что так для него важно: от общества, от всей блестящей светской круговерти, к которой он так привык, — в михайловской ссылке (друзья-то, Вяземский, Жуковский — те вообще переживали, что он там сопьется в своем медвежьем углу); и от будущей свадьбы, с которой, непонятно, то ли наконец все срослось, то ли, напротив, вот-вот сорвется все, — это время как раз в Болдине, — как у него получалось спрессованное напряжение, дикий стресс, по-нынешнему говоря, преображать в творческий импульс и головокружительной интенсивности работу. Ну, меня беседа наша удивила тогда — я не припоминаю за Алешей какого-то особо трепетного отношения к Пушкину в школьные годы. Он и сейчас говорил без запала, спокойно, размеренно, кому-то показалось бы — равнодушно... Но в глубине, мне почудилось, было то, чего я также не помнила за ним раньше, — какая-то странная, сильная и уверенная в своей силе правота. Право быть и право говорить от своего имени. О чем угодно — например о том, как выставленные вокруг неумолимые, непреодолимые холерные карантины и отрезанное, отчужденное от всего мира одиночество — как они вдруг, совершенно парадоксально становятся наивысшим образцом человеческой свободы.
«Свободы, — повторил я про себя. — Вот оно что, свобода».
— Да, и я еще подумала тогда, когда он ушел, мы не виделись пятнадцать лет, а он вообще ничего не спросил о моей жизни и ни слова не рассказал о своей. Оставил мне, правда, антикварную свою брошюрку в подарок, это я оценила.
— А вообще часто вас бывшие ученики навещают? — спросил я ее перед прощанием. — Из Алешиного класса, может, кто-нибудь?
— Разве они бывают бывшими? — улыбнулась Элли; потом задумалась и ответила совсем без улыбки, покачав головой. — Первые год-два, как-то, бывает, заглядывают. Потом уже реже, конечно. Реже, да.
Озирающийся не благонадежен
Все это, признаться, уже порядком стало... нет, не докучать, а утомлять. Сильнее всего Белкину вдруг захотелось снова сесть в самолет из Кельна до Москвы, предвкушая смену аэропорта и пересадку до Петербурга, взяться за отзыв для Зайцева и ничего иного не знать, не видеть, не помнить и не обдумывать. Нельзя ли, Элохим, сжалиться не локально, подкидывая решение мелкой загадки, а глобально, одарив всеобщим избавлением?
Но немедленно в голове снова возникла вся цепочка событий, как на экране проявились неотвеченные вопросы, и вновь прозвучал голос Воловских: «А к паролю мы бы пристегнули все прочее».
Философ пришел в совершенное уныние от таких слов.
В некотором отупении Белкин сидел в метро, механически просматривая и удаляя ненужные фотографии в телефоне. Потом вспомнил, что Воловских со своей историей обрушился на него так сильно, что он, Белкин, не пересмотрел те немногочисленные фотографии, которые сделал в Кельне. Захотел отвлечься, открыл в телефоне другую папку — и тут же наткнулся на два снимка последней записки Алексея. Непонятным образом они полностью забылись. Стал изучать.
Приблизил фотографию, стал внимательно рассматривать слова, написанные Алешей. Ничего экстраординарного не заметил. Потом перелистнул на другую фотографию, обратную сторону записки. Счет из ресторана. Что-то в нем было не то... Может, дата? Воловских говорил: «Накануне». Нет, день правильный. И час вполне соответствует — без десяти восемь, ранний вечер. Воловских еще сказал, что они «немного покушали». Ах, ну вот и странность нашлась. Чутье не подвело: счет явно чужой. Даже если они не «немного» поели, а нормально, все равно количество заказанных блюд и напитков никак не соответствовало двум людям — трапезничало, судя по счету, человек десять, а то и больше. И сумма к оплате соответствующая.
Белкин, благо уже держал телефон в руках, мгновенно переключился на телефонную книжку и немного прокрутил вниз до буквы «В». От звонка старику его уберегло только то, что поезд в эту секунду ехал на максимальной скорости, шум стоял изряднейший, говорить затруднительно. А через секунду энтузиазм пропал. Звонить перехотелось начисто.
Итак, Алеша спер чужой счет. Зачем? Почему? Случайно или намеренно? Или Воловских вновь соврал, и их за столом сидело не двое, а больше? Но тогда кто те другие? Очередная загадка. Что мог бы ответить Воловских? Ничего вразумительного, естественно.
До крайности надоело.
Бессмысленно это с кем-либо обсуждать. Фарида шепчет: распутаешь. Но смогу ли? Если всерьез говорить. Все как-то осложняется изо дня в день.
Белкин направлялся на работу. Вышел на «Адмиралтейской» (не уехал, задумавшись, дальше — уже достижение!), злобно сунув телефон в карман. Он тут же завибрировал: звонок. Белкин панически вздрогнул, но обошлось: всего лишь позвонила Лина Петровна, напомнила, что сегодня кафедра. За время разговора поток стремящихся наверх иссяк. Поезд в другую сторону еще не подъезжал, и на эскалатор Белкин вступил в гордом одиночестве, что позволило ему с легким матерком вслух громко выдохнуть.
— От всей души сочувствую вам, Борис Павлович, — вдруг раздался смутно знакомый голос сзади.
Белкин испугался до чрезвычайности. Обернулся — сразу за ним стоял Александр Фигнер в неизменном черном костюме.
— Утро доброе. Я Фигнер, помните?
«Забудешь тебя», — мрачно подумал Белкин. Но вместо ответа скептически поднял брови, дескать, ну-ну, и дальше что?
— Знаете, Борис Павлович, — продолжил Фигнер, — вы, конечно, по Ветхому завету специалист, но я бы хотел вам кое-что напомнить из Нового.
Философ молча смотрел на Самуиловича, оставаясь ступенькой выше и не намереваясь спускаться. Фигнер тоже не изъявлял желания поравняться с Белкиным.
— Помните, у Луки написано, что Христос велел одному из своих учеников: «Следуй за мной»? А тот ответил, позволь, мол, Господи, похоронить отца.
Белкину хотелось заметить, что он помнит не только про мертвых, которые должны хоронить своих мертвецов, но и то, что об этом писали как Лука, так и Матфей. Однако не стал открывать рот. Фигнер как ни в чем не бывало продолжал:
— Мне вот кажется, что вы живы, Борис Павлович. И не то чтобы вам нужно идти и благовествовать — хотя, учитывая род ваших занятий, почему нет, — но уж в любом случае вам не стоит тратить себя на тех, кто не отмечен тем же, чем отмечены вы.
Первый эскалатор постепенно кончался — дальше нужно было пройти по промежуточному вестибюлю и встать на второй.
— У Луки еще написано о том, что озирающийся назад не благонадежен для Царства Божьего. Помните?
Белкин все помнил. Но по-прежнему молчал. Они зашагали по вестибюлю. Белкин праздно заметил, что существенно выше и стройнее своего собеседника, что его иррационально обрадовало.
— А у Матфея, — обнаружил верные познания Фигнер, — помните, что за этими словами последовало?
Белкин качнул головой.
— Жаль, но неважно, к тому же вы всегда можете вернуться к тем стихам, — улыбнулся Александр Самуилович. — Я пойду, до свидания!
Но не ушел, а напротив — даже чуть ближе наклонился к нему на ходу:
— И кстати, счастливо вам оставаться, а я в отпуск улетаю завтра.
— Куда? — на автомате зачем-то спросил Белкин.
— В Сирью, — как-то странно, одними губами, ответил его спутник, — развеяться.
После чего мгновенно ускорился и первым оказался на втором эскалаторе. Когда сам Белкин добрался до автоматической лестницы и поднял глаза к зияющему где-то далеко-высоко выходу, на эскалаторе никого не было.
«Или он „в Севилью” сказал?..» — подумалось.
Сзади накатила толпа.
На улице Белкин снова вытащил телефон и позвонил в деканат.
— Лина Петровна, у нас же на кафедре есть Священное Писание?
Обычно он на лекции приносил Библию с собой, но сегодня она ему была, по идее, не нужна — нынешние занятия христианства вообще не касались.
— Да, Борис Павлович, вам подготовить к лекции?
— Вы могли бы мне вслух прочесть кусочек? Мне бы прямо сейчас, очень нужно.
— Конечно, что и где посмотреть?
— Евангелие от Матфея, восьмая глава.
— Минуту... Открыла. Что там?
— Я не помню номер стиха... Посмотрите, где там Иисус говорит о мертвых и их мертвецах?
— Да... Двадцать первый стих. «Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Двадцать второй стих. «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Это то, что нужно?
— Отлично. А дальше?
— Двадцать третий. «И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его». Двадцать четвертый. «И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал». Двадцать пятый. «Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем». Двадцать шестой. «И говорит им: что вы так боязливы, маловерные?» Достаточно? Борис Павлович? Борис Павлович?
— Да? Ох, простите, Линочка Петровна...
— Читать дальше?
— Ради Бога простите. Достаточно. Извините.
— Да что вы извиняетесь?
— Я задумался, а вы старались...
— Так это же хорошо, что задумались, думать — ваша работа.
— Да, наверное... До скорого, я приду минут через пятнадцать. Извините еще раз, Лина Петровна...
Он закончил разговор, одновременно кладя телефон в карман и чуть не падая в обморок от очередного открытия: снова Лина. Опять!!! Она-то каким боком к истории Алеши примешана? Неужели?
И вдруг он успокоился.
И выпрямился.
И даже приосанился.
И зашагал бодрее.
Стало ясно: дело — бесперспективно. История, любая история, не может иметь финала. Она всегда неисчерпаема, работает по принципу бесконечного ряда домино, а может, коготка, который увязает, но ни в коем случае не по принципу веревочки, которая вьется, но конец будет. Не будет конца. Веревочка как вселенная — безгранична и все время расширяется, то есть удлиняется, и в результате обязательно приведет Белкина, например, к собственным родителям. Или к главе городского округа Большого Камня. Или к митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому. Что это будет значить? Ровным счетом ничего.
Нерадивый Христов ученик хотел похоронить отца, который, конечно же, на тот момент не умер. Ученик намеревался вернуться в дом к старику-отцу и дождаться, пока тот мирно отойдет. Но он, ученик, был избран. Как раз о том и говорил Иисус. Мертвые не могут никого хоронить, конечно же. Мертвыми Он назвал тех, кто не с Ним.
Невозможно помыслить о сравнении себя с Христом. И с Его учеником. Но Белкин совершенно точно не может и не будет хоронить Алексея Андреева, какую бы симпатию он к нему ни питал. И заниматься Владимиром Воловских, который формально жив, он тоже не может, хоть бы тот назначил ему ежемесячную зарплату. Белкин сделал все, что смог, и он, в отличие от старика, жив по-настоящему, а не формально.
Тайны в самом деле копятся с невероятной скоростью. То, что Белкин разгадал пароль от андреевского ноутбука, — подлинное чудо. Но это случайность, Элохим, мы же понимаем. Точнее, не случайность, а Твоя милость. Кое-что удалось выяснить, кое о чем — догадаться. Многое из узнанного действительно важно — по крайней мере для Воловских. Но дальнейшая работа превратится в драку ради драки. Какая разница, украл ли Алексей чужой счет из ресторана, случайно прихватил, или старик соврал, а их было там тринадцать человек? Что изменится, если мы внезапно выясним, с какой целью он подарил учительнице старую брошюрку? Положа руку на сердце, имеют ли сейчас значение причина, по которой бедный Алеша в припадке тоскливого полубезумия придумал себе близнеца Близнецова и написал за него несколько стишков? И откуда он выкопал эту фамилию? Ответы узнать страшно любопытно, но любопытство бессмысленно, бесцельно, выхолощено, оно ни к чему не ведет.
Если бы Алексей исчез в Петербурге — существовала бы надежда, что он найдется. Либо он сам, либо его останки. Оставалась бы надежда. Микроскопическая. Но на что надеяться исчезнувшему в ночном египетском море? Точнее, на что надеяться тем, кто его ищет?
То, что «все лгут» — полбеды.
Каждый думает только о себе. Непереносимо.
И Алеша ничем от них не отличался — иначе бы и вел себя со всеми по-другому. Фарида, несомненно, попала в цель: он не мог быть таким хорошим. Он действительно был так себе. Просто его окружали совсем слепые люди, которые даже не замечали, что он невнимателен, не особо воспитан и очень эгоистичен. Хотя, конечно, все замечали, что он — серая мышка. Но разве это про Алешу? Это про них. Таким образом все пытались намекнуть на свою исключительность. За счет Алеши, благо он не ответит. И он отражается в тех, кто рассказывает мне о нем, как в кривых зеркалах. Не потому, что они хотели бы нарочно как-то его исказить, а просто потому, что поверхность отражения изогнута их собственной природой.
Велика, велика вероятность, что он исчез именно там, в ночном море. Но возможно ли отыскать в этом море маленького человека усилиями еще пары маленьких людей, если целый пропавший самолет не могут найти тщаниями нескольких государств? Никоим образом.
И нельзя найти движущие силы. Алеша вполне мог войти в море, как вошли в лодку ученики Христовы — вслед за Учителем. Но кто тогда учитель Алексея?
Ни за одним вопросом нет ответа. Это как в детстве на математике — сначала учили, что делить на ноль нельзя. Просто нельзя. Через год-другой оказалось, что не то чтобы нельзя; можно, но бессмысленно. Потому что решения нет. После знака «равно» — пустота и темнота. А еще позже выяснилось, что и решение есть; впрочем, только для одного случая: когда делишь ноль на ноль. Но и тогда задавай этот вопрос, не задавай — а ответа не будет, потому что он: «неопределенность». Что угодно. Любой ответ окажется правильным, но это не будет значить ничего. Так и я, деля свою сегодняшнюю ночь на ту последнюю Алешину, получаю опять неопределенность. Любой ответ может подойти, но никогда не будет он ни единственным, ни окончательным. Ну и кому он нужен?
Контуры действительности размываются, все покрывает белый шум.
Темно.
Темно и гулко.
И чуть тревожно.
Никто не отражается в воде. Нет никого.
Все, все вокруг безвидно и тщетно, и мрак над пропастью.
девятнадцатое
Другой так же стоит сейчас перед раскрытым окном. Смотрит в быстро густеющие с той стороны сумерки. Он видит: огромное море, крошечный человек, частица вечернего пейзажа на еще хранящем солнечный жар пляжном песке, — и я, запутанный с ним волею судеб, вижу. Стой — с той стороны подступающей тьмы слышу я. Мироздание здесь неподвижно, прозрачно и отчетливо, как под резцом гравера.
Прежде оконные створки раскрывались наружу, и мир был другим. Прежде книга и день писались от руки — неприметно растут тени в комнате; продвигается по листу чернильный след, заполняя собой все странное пространство от края до края; песчинка, легкая, как пушинка, падает к песчинке в колбе часов; верный пес и большая кошка, свернувшись, дремлют у ног, — где я видел такую картину летнего вечера? — прежде день человеческий был рукописью, и каждая книга — медленным сокровищем, что берегли и читали в семье поколение за поколением. Прежде я рос ребенком и искренне удивлялся тому, сколь бесконечны протянутые вдаль вокруг меня прошлое и будущее.
А потом начинается что-то вроде биографии. Хотя уж какая тут биография — смешок один, три строчки нонпарелью. Но... а что если нам чуть иначе взглянуть? — у биографии, как и у, скажем, географии, есть не только внешние длина с шириною, но и внутренняя глубина: вот сидит, например, человек дома месяц, в единственной своей координате, выбираясь раз в неделю до ближайшего магазина, — и для стороннего взгляда все домашнее время его — просто лакуна, ничто, меньше чем пустота; но для него самого, может статься, дни эти окажутся самыми важными, самыми подлинными во всей его долгой, или короткой, какой бы она ни оказалась, жизни — от самого раннего, робкими проблесками данного, прошлого до самого последнего, едва мерцающего в наступившей темноте, будущего его.
Близнецов, большой любитель экзотики, утверждал, что вся наша жизнь — это разворачивающаяся от эпохи к эпохе рэнга. Был в средневековой японской поэзии такой любопытный жанр коллективного творчества. Один мастер складывал начальную строфу-трехстишие. Другой дописывал к ней свое двустишие — так, чтобы вместе они составляли цельную по смыслу строфу из пяти стихов. Затем третий (или опять первый, если дело ограничивалось диалогом двух поэтов) писал новое трехстишие, связанное по смыслу теперь с двустишием второго. Следующий опять сочинял двустишие, связанное с трехстишием предыдущего, и так далее, далее, да... Традиционная для японцев лаконичность каждого отдельного фрагмента вместе с неожиданными поворотами, сменой ракурса от строфы к строфе позволяла зайти сколь угодно далеко по отношению к изначальной теме. Так вот, наш добрый друг считал, что рэнга, цепочка нанизанных строф, — прекрасная метафора для всей разворачивающейся во времени человеческой культуры. В которой мы, наследуя, а затем и оставляя наследство, участвуем — подозреваем мы о собственном участии или нет.
Прошлое и будущее сходятся не в точке настоящего, а где угодно. Потому что нет точки настоящего, потому что всякое облачко времени пересекается с любым другим, и никакое одно не выделено из целого, не выделено ничем — кроме границ нашего физического зрения. Все время — единый, огромный, прозрачный, антрацитовый шар, в котором мириады искорок движутся во все мыслимые и немыслимые стороны по установленным для них линиям. Но мы знаем, что теперь, теперь, когда все ясно нам обоим, мы вольны повернуть куда угодно.
Однако движение «к» всегда есть и движение «от». И поэтому культура, и человек, и жизнь — разворачиваются, но одновременно и сворачиваются. Рождение есть умирание есть рождение. Где все, что можем мы обозреть, до чего сможем дотянуться, — одна бесконечная рэнга.
Тысячелетия назад, когда человек превратился в меру всех вещей, став мерилом истины и лжи, мы были совсем другими, хотя это «мы» — не более чем кокетство, какие тут могут быть «мы»? Что от нас осталось? Разве что хромосомный набор да наличие высшей нервной деятельности. Что, кроме физиологии, объединяет меня, стоящего в нынешний час на вершине, с каким-нибудь древним греком, не говоря о кроманьонцах? Человек научился лгать. Человек научился скрывать ложь. Человек научился выдавать ложь за правду. Человек научился не отличать ложь от истины. Так кто же теперь мера всех вещей? Протагор, ты мертв!
Впрочем, кое-что еще осталось. Рука, качающая колыбель. Колыбели, конечно, тоже очень сильно видоизменились, но их суть от века одна: младенец спит, а мать следит за его сном — либо бережет, либо убаюкивает.
Это, конечно, если мать, так сказать, имеется.
Так выходит, что мы все время во что-то впутаны, ввязаны, включены в какие-то собственные и чужие списки и ведомости, в границы установленных правил и регламентов, в тесноту причинно-следственных и кредитно-долговых отношений, в мелкое, суетливое — как на ускоренной перемотке — мельтешение. Только два опыта остаются, которые человек всегда переживает в одиночестве. Которые невозможно разделить с кем бы то ни было — сновидение и умирание. Все остальное, что мы полагаем нашим, всегда разделено с другими.
Однако во всей немыслимо разросшейся сети связей — парадоксальным образом — все мы, непрестанно сообщаясь друг с другом в тесноте, темноте и обиде настоящего, прижатые пространством и временем один к другому, как в салоне маршрутки или в утреннем метро, в действительности все мы разделены расстояниями, которые не измерить и в световых годах.
И мед ее вкус, и полынь — тайной этой свободы. Потому, что мы навсегда снаружи один от другого, каждый надежно укрыт от любых, и самых близких, гостей. Взыскующий меня, как бы далеко, долго и внимательно он ко мне ни шел, обнаружит в воображаемых комнатах моего дома лишь образы меня, археологические черепки чужих голосов обо мне, ссылки на них, репосты ссылок, комментарии к репостам... до какого бы предела он ни добрался, но и в самом конце любых концов ничто не откроет ему первоисточника. То, что он найдет на месте меня, — лишь восковая фигура. И все бы оно ничего — да ведь и мне ровно так же никогда не пробраться к другому сквозь все неисчислимые скорлупки человеческой матрешки. Ни к кому — даже к отцу. Даже к маме.
Может быть, ты приснишься мне еще один раз? Привидишься? Я так часто думал о тебе, что врос в тебя, запутался с тобой, мне действительно сложно отделить зерна от зерен. Или плевелы от плевел: как составные части наших жизней ни назови, они окажутся одинаковыми по своей ценности, как раз поэтому, возможно, мы и слились навсегда, хоть ты этого даже не заподозришь. Я усну, ты придешь, и все встанет на свои подлинные места.
Но что ты мне скажешь? Вероятнее всего, ничего. Впрочем, нет, все не так. Слово твое прозвучать могло бы, но я в скудоумии своем и духовной слабости не могу его представить. А значит, в моей картине мира говорить придется мне. Лучше всего было бы, конечно, промолчать, но, увидев тебя хотя бы и во сне, я не смогу удержаться.
Я замыслил сочинить всю эту историю в ту минуту, когда брел под легким одеялом по ночной пустыне, оставив за спиной пограничный пункт между еще-усталостью и уже-сном, когда в расшитом небесной механикой и таком глубоком здесь небе вдруг разглядел третий опыт одиночества для человека, тот опыт, что сродни сновидению и умиранию, — творение. Сочинение. Письмо. Тем-то ведь и хорош дневник, что позволяет воображению вписать в собственную жизнь даже самую невероятную историю. И вот, представилось мне, я вдруг исчез; искали меня и не нашли; но — отсутствующий там, в будущем, меж ними — я тем самым смог заглянуть в развернутые к нашему прошлому взгляды-зеркала тех, с кем был близок, кто был когда-то дорог и долог в пролетевшие юркими птицами годы жизни моей. Их прошлое и будущее, да и они сами, оказываясь в моей воле податливыми, как воск, — будут теперь такими, какими я их написал. Сотканные из алфавита нашего и грамматики Мнемозины свидетели, их плоть, облик, речь, их дни и ночи я сохранял в облаке, доступном лишь мне одному. Я смотрел на себя их глазами и видел разное. Кто-то и еще остался за их спинами, сгустки тьмы, заготовки человека — персонажи, коим не нашлось у меня имени и лица. Те, кто пока ждут своего времени, своего внимательного и верного им взгляда.
И лишь одно маленькое зеркало не отражает ничего — то, которое восемь лет назад, такой же глубокой ночью, я сам завесил черным платком небытия.
Так кому же — тебе ли, огромное, безвидное море ночное, впадающее в ночное небо? тебе ли, глядящему с той стороны листа на крошечного человека, стоящего на вершине? — скажу я в нагорной, пустынной своей исповеди о том, как хотелось бы, конечно, бросить все и остаться, то есть уехать куда-нибудь в окраинные земли ойкумены, чжурчжэни где живут, ойраты и прочие иркуты. О том, как проходишь, и никто тебя не узнает. И как ужасно хочется сейчас мороженого — такого слегка подтаявшего, большого куска мягкого пломбира, в вазочке и с домашним вареньем.