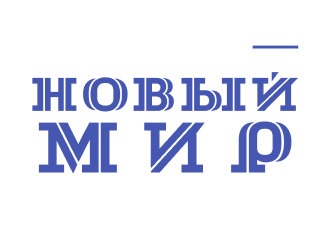КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА МАРКОВА
Свою десятку книг читателям представляет филолог, профессор РГГУ и ВлГУ, постоянный автор журнала.
Рэй Монк. Людвиг Витгенштейн. Долг гения. Перевод с немецкого А. Васильевой. М., «Дело», 2018, 624 стр.
Такого парадоксалиста, как Витгенштейн, человечество не знало со времен Сократа. Речи Сократа до нас донесли красноречивый историк Ксенофонт, эта усердная аттическая пчела, и восторженный Платон. Если Ксенофонтом Витгенштейна стал Терри Иглтон, сценарист биографического фильма Джармуша, то Платоном — Монк.
Когда Платон приписал в конце «Пира» Сократу мысль, что настоящий поэт должен уметь сочинять и комедию, и трагедию, в этом был вызов всей серьезной прозе того времени. Так же и Монк бросает вызов биографическому жанру как исследованию характера, закаленного неблагоприятными обстоятельствами. Он рассказывает о благоприятных обстоятельствах в жизни Витгенштейна, а психоаналитических тем детских травм и неврозов мы в книге не найдем. Одно величественное действие сменяет другое; и власть не только внешних, но и внутренних обстоятельств отступает перед склонностью Витгенштейна к безумным импровизациям.
Когда Монк пишет, что, возможно, главной причиной депрессии Витгенштейна были не последствия мировой войны, в том числе в личной жизни, а неудача в поиске издателя «Трактата», мы уже не заподозрим в Витгенштейне самовлюбленного писателя, но расслышим сократовско-платоновскую иронию, требующую от собеседника не отчаиваться и не хвастаться, но показывать, на что он способен. Издание книги — такое же действие самосознания, как ответ на вопрос Сократа, потребовавшего от ремесленника объяснить, в чем формула и цель его ремесла. Философская книга, выйдя из печати, оказывается формулой для всей эпохи. И пусть далее Монк видит в писательских усилиях Витгенштейна гордыню, такая характерологическая заметка остается лишь репликой в диалоге, а не суждением по правилам биографического жанра.
Витгенштейн Монка оказывается больше, чем нужно, похож на Хайдеггера, а не на самого себя. Он собеседует душою с Августином, а не с Расселом, ужасается небытию мирского бытия, наконец, обрушивается на пересуды и толки, прямо как Хайдеггер в «Бытии и времени». Но не получается ли перед нами аберрация, вызванная формульностью книг: пусть «Логико-философский трактат» и «Бытие и время» равно стали книгами эпохи и книгами-эпохами, но достаточно ли этого факта, чтобы объяснять блуждания и сомнения Витгенштейна тем, что он стоял на том же пути, что и Хайдеггер, просто хуже это понимал?
С чем еще трудно согласиться в книге, так с тезисом, что философы Оксфорда больше интересовались историей, а философы Кембриджа — теорией. Скорее уж Оксфорд был местом для исторических упражнений, тогда как в Кембридже переживали историю как живую действительность, а не повод для самоутверждения при решении чужих философских проблем. Но такая схематизация позволяет на последующих страницах объяснить, как Витгенштейн научился выносить историю за скобки, чтобы различать «между естественным и нарочитым чувством». Тогда постоянный поиск Монком «ненаучного» в Витгенштейне — лучший способ рассказать о нем как о задушевном и при этом требовательном собеседнике. Витгенштейн в конце концов оказывается лучшим наследником Льва Толстого: в его характере главенствует полное отрицание любой деланости и нарочитости, не как этическая уступка другим людям, но как первоначальная возможность обратиться к любому другому.
Райнер Мария Рильке. Ворпсведе. Том 1. Дневник. Перевод с немецкого В. Котелевской, перевод стихов И. Зайцева. М., «Libra», 2018, 122 стр.
Колония художников в Ворпсведе под Бременом была для Рильке не просто приютом вдохновения, а особым санаторием: как в санатории восстанавливают телесное здоровье, так в резиденции живописцев — самый состав творчества. Слишком многое отвлекает современного художника, который, сам того не желая, становится нервным и мстительным, и Ворпсведе учит если не радоваться жизни, то хотя бы не мстить ей.
Дневник Рильке — не запись поразивших его событий, но история того, как события можно подготовить. Природа сама пытается себя развеселить, и дело художника — помочь природе не забывать о своей веселости.
Конечно, многие мысли Рильке уже известны в русской культуре, благодаря тому, как рассуждали об искусстве Пастернак и Цветаева, благодаря знакомству нашего читателя с делом Родена и письмами Рильке. Но в тексте «Ворпсведе» есть идея, которой нет ни у Пастернака, ни у Цветаевой, именно идея школьного обучения искусству. Русские поэты хотели быть «вечно вне школ и систем», подальше от педантов. Тогда как Рильке говорит, что только постоянное общение с художниками отучает смотреть на картины как на «новеллы», выискивая в них «лирические свойства», обучая прочитывать детали не как намеки на сюжет или даже не как радующие подробности, но как часть будущих повествований о действительном устройстве жизни.
Художник, близко подходящий к полотну, — тот же учитель, который объясняет первоклассникам буквы. И если Пастернак любил счастливое схождение обстоятельств, а Цветаева страдала от несчастного их совпадения, то Рильке учился отпускать все эти обстоятельства на волю: не важно, сойдутся они сейчас или через множество звездных столетий. Медитативное чтение, как природа блюдет свою настороженность и не слишком торопится потворствовать искусству, — лучшая похвала этому переводу.
Анна Ямпольская. Искусство феноменологии. М., «Рипол классик», 2018, 342 стр.
Феноменологическая философия многим кажется безыскусной: внимание к вещам и к условиям собственного познания, методическая критика частных наук в пользу строгости в предпосылках и суждениях, тематика повседневного опыта — где здесь место восторгам и аплодисментам? Анна Ямпольская доказывает, что феноменология — искусство жизни, мастерство наподобие средневековой аскезы, преображение тела, а феноменологи — новые трубадуры, занятые своей веселой наукой. Как монахи Фиваиды живут на расстоянии голоса, чтобы позвать на помощь, и влекут друг друга к спасению, целыми днями не встречаясь лицом к лицу, так и в феноменологии кабинетная наука — не просто стиль жизни, но особое искусство спасения. Чем строже мыслит феноменолог, тем вдохновеннее его окликает само бытие.
Если для человека, бегущего прочь от философии, такое окликание окажется неврозом или ленью, то феноменолог сразу видит механизмы сознания, отвлекающие от дел или повергающие в уныние. По сути, феноменология — новая «Лествица», пошаговая инструкция, как не впасть в отчаяние, но пережить сладостную рану искусства. Феноменологическое требование редукции более всего напоминает повеление воздерживаться от любых образов во время молитвы. И как на картине Беллини «Аллегория Чистилища, или Озерная мадонна» Фиваида отражается в глади самых чистых вод, так и феноменология, как философский метод самоконтроля, отражается в данных искусства: импровизация, вдохновение, композиция — все это лишь отдельные стороны способности искусства бить на поражение.
По сути, книга Ямпольской — роман о том, как перейти от затронутости (или, на феноменологическом наречии, аффицированности) искусством к изменению ума. Для этого нужно прежде всего перестать понимать искусство как атаку на чувства или как прельщение чувств. Искусство — это ритм, оказывающийся «формой-в-становлении», это всегда сохранение единства эстетического переживания даже при невозможности совершенства. Искусство ХХ века, доказывает Ямпольская, разомкнуло философию: она перестала настаивать на безупречных ситуациях бытия и познания, но обратилась к жизненному миру человека, в котором жизнь продолжает жить, даже если человек изменил этому миру; и феноменология — покаяние в этой измене.
Ямпольская выступает одновременно как проповедник и критик феноменологии ХХ века. Французская феноменологическая критика искусства, от Мориса Мерло-Понти до Мишеля Анри, права, когда видит в искусстве виртуозность, не разрешающую нам овладевать миром и тем самым сохраняющую трепетность наших чувств. Но она не вполне права, когда хочет видеть в искусстве чистую энергию, чистый аффект, чистое доказательство бытия Божия или что-то еще — ведь тогда наша жизнь окажется всегда готовой для восприятия искусства и тем самым окажется в плену ситуации бытия-наготове.
Более того, Ямпольская все время хочет помочь феноменологам разобраться с природой искусства и приводит в их незримый кружок или колледж Шкловского и других русских формалистов: эти ребята объясняют, что нельзя так жестко противопоставлять готовое изделие и импровизацию, что само изделие может быть импровизацией особого рода, а импровизация — такая же форма, как сделанное и воплощенное. Французские феноменологи признавали только одно воплощение — спасительное, как в известной книге М. Анри «Воплощение», тогда как формалисты показывали, как субъективность воплощается в системе приемов, становящихся уже надсубъективным эстетическим фактом, принося не спасение, но только социальное понимание искусства.
Формалисты не смогли раскрыть свою социологию до конца, им пришлось поспешно маскироваться в годы идеологического наступления. Но теперь мы можем благодаря формалистам поправить феноменологов: нельзя превращать человека в точку постоянного переживания эстетизированных жизненных событий. То, что формалисты понимают как «прием», Ямпольская, со ссылкой на Деррида, толкует как доверие, создающее публичную жизнь людей. Нельзя сводить политику только к перформативному действию, к твиттер-революциям, надлежит сначала вернуть в политику доверие.
Ханс Ульрих Гумбрехт. После 1945. Латентность как источник настоящего. Перевод с английского К. Голубович. М., «Новое литературное обозрение», 2018, 328 стр.
Новая книга Ханса Ульриха Гумбрехта посвящена миру, который не смог до конца вернуться с войны. Вынесенную в заглавие «латентность» мы бы назвали «окопным синдромом», невозможностью обратиться к мирной жизни после бессонных ночей под огнем. Источником настоящего для Гумбрехта оказывается не травма сама по себе, а, как ни странно, стремительное исчезновение самого настоящего. События остаются без настоящего, как овцы без пастыря.
В книге Гумбрехта множество героев: Эдит Пиаф и Борис Пастернак, Брехт и Беккет, Фолкнер и Селин, Эрих Ауэрбах и Ханна Арендт, и многие другие. Филолог Курциус оказывается рядом с Паулем Целаном, Кассиус Клей — с Вилли Брандтом. В основание книги вошло переживание состояния послевоенной Европы как состояния напряженности, грозящего уже не агрессией, а самообманом. Можно попрощаться с оружием, но как попрощаться с собственной ложью? Гумбрехт изучает разные варианты того, как открытие истины не приводит к суду над ложью, истина перестает быть основанием суждений, а остается лишь моментом внутреннего опыта.
Все названные писатели, философы или артисты пытались восстановить разрушенное нацизмом единство европейской жизни, ее «настоящее». Но нет уже той трибуны, с которой можно объявить о восстановлении единства Европы. Ведь всякая трибуна со времен классической античной риторики — не только способ привлечь внимание, но и защита выступающего, которому придается почтенный статус оратора, охранная грамота мастера слова, — тогда как в послевоенное время оратор беззащитен, его речь будет поневоле услышана как эгоцентрическая, даже если он искренне говорит о том, что его волнует.
Гумбрехт рассматривает работу писателей не с собственной травмой, а с собственной беззащитностью. Послевоенное время вдруг слило воедино внешнюю незащищенность и внутреннюю беззащитность — и эта ситуация столь же исходна для Гумбрехта в реконструкции идеалов и намерений своих героев, как «чувства» для романтика или «быт» для реалиста. Абсурд и насилие, срывы и прозрения — все это оказывается частью такой проработки беззащитности. Прекрасный, почти взлетающий перевод Ксении Голубович, акцентирующий всю гибкость и упругость русских глагольных форм, делает книгу Гумбрехта частью русской литературы и полновесным творческим ответом на «образ маленького человека».
Дмитрий Хаустов. Буковски. М., «Рипол классик», 2018, 308 стр.
Биографию Чарльза Буковски вроде бы писать нетрудно: что бы ты ни рассказывал о скандалисте, подбирая повторяющиеся подробности драк и случайных связей, получится новый «роман без вранья». Но алкоголик и буян Буковски вовсе не был скандалистом — ведь последний всегда ищет чужого внимания, а писатель пестовал индивидуализм. Для него рассказать о себе всегда было важнее, чем показать себя.
Буковски Дмитрия Хаустова — вовсе не провокатор и тем более не авантюрист. Напротив, этот грубый и тяжелый человек — пример добросовестности: если он обличает старшее и свое поколение, то вовсе не за морализм или обывательскую скуку, а за нехватку целеустремленности. Буковски — удивительный пример писателя, никого не подставившего, ни вольно, ни невольно. Если издатели готовы были ему платить авансы, то вовсе не просто потому, что увидели в нем необузданный талант, а потому что знали, что Буковски всегда напишет, просто потому что ему надо объясниться с собой и другими. Даже возвышенный созерцатель может «подставить» соседа, допустить оплошность, но не человек, который всегда готов объясниться и с самым ничтожным соседом.
Буковский назван в биографии человеком «перенасыщенной жизни», не дающим себе поблажек. Так и рабочий внимателен в своих трудах, и крестьянин ждет будущего урожая, и инженер не ошибается в расчетах. Но только Буковский был сам для себя предметом, рассчитывающим при этом не свою славу или писательскую известность, но саму возможность писать от своего имени. Немецкое происхождение, мизантропия, превращение жизни в «сюжет… для письма» — все это обстоятельства, не помогающие, но мешающие говорить от первого лица, а не от лица своего круга или своего психологического типажа.
И, чтобы говорить от первого лица, надо было научиться не только целеустремленности, которой вдоволь было у других писателей, но и отбраковке материала. Кто не боится перечеркнуть собственную жизнь, кто клеймит современность за обезличенность, а прошлое — за насилие, тот только и сможет стать вдумчивым рассказчиком. Бунтарь и изгой Буковски — писатель, которому такие отречения от целых эпох и миров и оставили время на вдумчивость, Хаустов сравнивает его даже с Данте, для которого его собственная личность стала и темой, и предметом, и вопросом. Хорошее знание истории «воображаемого» помогло Хаустову составить биографию Буковски не как нигилиста, но как почти что античного философа-теурга, который может бесстрастно овладеть телесными страстями.
Только как соединить этот вывод с тем, что Буковски умел побаловать и себя, и читателя? О баловстве и других эфемеридах бытия Хаустов, тревожащий множество великих теней, не рассуждает. Буковски оказывается у него несколько односторонне философом своей эпохи, занявшим место среди вечных звезд, который если начинает возмущать этот бренный мир, то лишь насмехаясь над ним хохотом богов.
Энн Холландер. Пол и костюм: эволюция современной одежды. Перевод с английского Е. Канищевой, Л. М. Сумм, «Новое литературное обозрение», 2018, 176 стр.
Энн Холландер создала историю секуляризации костюма: каким образом он из публичной «формы» стал объектом индивидуального затаенного желания. Костюм не похож на другие фетиши общества потребления: им не только овладевают, но и продолжают завороженно любоваться, как полетами в космос или работой тончайших процессоров.
В книгах Холландер главенствует один сюжет, соответствующий конфликту природы и культуры («я» и «оно», по Фрейду, или «жизни» и «духа», по Томасу Манну). С тех пор как Аби Варбург открыл «формулы пафоса» и доказал, что развевающиеся одежды в живописи нужны не как часть сюжета, а как способ задеть этим сюжетом зрителя до глубины души, остается вопрос, что такое одежда вообще — посредник в психологических переживаниях или, наоборот, охранная грамота цивилизации? Это самовыражение природы или самый мягкий из нормативов культуры? Фрейд говорил о том, какое чувство наготы и беззащитности порождает униформа, Холландер, напротив, доказывает, что любая одежда чувственна до обманчивости, в ней слишком много импровизации и поэтому она всегда становится частью культурной нормы, а не только природного трепета. Наступает пора для жизни духа, сколь бы ни было искусство одеваться увлечено жизнью окружающей природы.
Одежда для войны с древности была не только удобной, но и вызывающей: в этом смысле дважды обманывала: и своего обладателя, превращая войну в естественное занятие, и врага, пугая его внешним видом. Современность началась именно тогда, когда этот двойной обман был разрушен новыми способами мобилизации: Жанна д’Арк в латах или напудреные солдаты Фридриха показывали, что сама война — не ответ на вызов, а вызывающее занятие. Так появилась современная одежда, в которой всегда есть вызов, провокация и жесткая игра.
Книга Холландер показывает, как связаны, например, монохромность классицистских статуй и официальный костюм или дендизм и переменчивость моды. Многое из того, что мы по подсказкам современников модных событий привыкли относить к разным областям человеческого существования, оказывается частью одной большой игры по утверждению костюма как инстанции социального вкуса.
Холландер утверждает, что мода появляется как протест против профессионализации портновского искусства: женщины стремятся к импровизации, чтобы не допустить монополии портных, которые будут властно определять, как кому одеваться. Лучший символ моды — аксессуар, как необходимое дополнение костюма, а костюм исторически обречен на то, чтобы стать прет-а-порте, шаблоном, который сам себе закон без всяких портных. Так было разрушено одно из древнейших искусств с его канонами, но зато трепет при встрече с костюмом окончательно перестал сводиться только к фрейдистскому страху перед униформой.
М. М. Фиалко. Метафизика европейского эзотеризма: опыт исследования троичных структур. СПб., «РХГА», 2018, 247 стр.
Предмет книги Михаила Фиалко — столкновение двух европейских философских настроений: скептического и герметического. Противоположности, даже враждуя, сходны друг с другом: скептик, на что ни посмотрит, везде усмотрит симптомы собственной подавленности, а эзотерик разглядит в любой вещи символ инобытия. Оба они ходят и считывают вещи как символы — только выводы делают различные. При этом скептик подыскивает тайные символы для своей меланхолии, удивляется тому, что мир не удивителен, а эзотерик чаще встречает примеры мистической незавершенности, записок в никуда, чем сбывшегося мистического совершенства. Так что они — братья в блужданиях.
Хотя в книге обещано исследование «троичных структур», на самом деле изучена только одна: структура тело-душа-дух. Алхимия должна была дополнить любую троичную структуру еще четырьмя природными элементами, так что вряд ли мы можем говорить о сохранении каких-либо троичных структур в этих впечатляющих схемах. Фиалко настаивает на том, что раз тело, душа и дух мыслятся как вертикаль, в том числе при созерцании алхимического великого делания, значит это некоторая форма или структура.
Но можно ли назвать формой постоянное преображение бытия или постоянное недовольство собой? Чтобы объявить формой все три составляющих человеческого бытия, надо отказаться от прежнего понимания формы, например, от схоластического понимания души как формы тела. Однако Фиалко не доказал, что европейский эзотеризм смог опровергнуть схоластику и научить созерцанию чистых структур: нам тогда бы пришлось понимать его как кибернетику до кибернетики. Более того, исследователь сам признает, что даже для такого любителя отвлеченных схем, как Парацельс, «теория трех начал становится частью более широкого учения». Гораздо ближе к теме исследования оказывается учение знаменитого алхимика Джона Ди о пропорциях как не просто гармониях событий, но познавательных формулах; и страницы, посвященные такой вдохновляющей гносеологии Джона Ди, принадлежат к лучшим к книге. Кажется, достаточно просто объявить все эти познавательные формулы не работающими, не срабатывающими, и перед нами сразу развернется европейский скептицизм.
Другая важная тема книги — связь месмеризма, магнетизма и других тайных увлечений просвещенной эпохи с учением Сен-Мартена о тройственном воскресении: мистик сначала воскрешает свою душу, потом всю вселенную, а потом — ее чудеса. Тогда всеобщая симпатия вещей — результат эзотерического понимания события не как влияния одних обстоятельств на другие, но как момента воскресения. Тогда если событие частной жизни становится всеобщим, то все вещи воскресают и начинают дружить. Так и оказывается, что эзотеризм — закулисье того брожения «чувств», которое отличало предромантическую эпоху. Троичные структуры тогда — и действительные убеждения эзотериков, и наши модели, позволяющие систематизировать сложный материал; но чтобы объединять веру в Троицу и переживание текущих событий под одной рубрикой, нужно быть Шеллингом, а не современным исследователем.
Уильям Гилмор Симмс. Вигвам и хижина. Авторский сборник. Подготовка издания и вступительная статья М. О. Эрштейн, перевод с английского М. Л. Павлычевой. СПб., «Дмитрий Буланин», 2018, 384 стр.
Романист американского фронтира Уильям Гилмор Симмс почти неизвестен в России, в отличие от Майна Рида и Фенимора Купера, о чем можно только сожалеть: он первый вывел в своих произведениях не просто храбрых, но скорбящих индейцев. Мир Симмса состоит не из подвигов, а из ужаса. Всякая дерзость героев оказывается не просто вызовом небесам, но яростью и ненавистью. Сдержанность и осторожность оборачивается испугом и безволием, а любование красотой — жгучим интересом, смешанным с неизбывной подозрительностью.
Симмса ценил Эдгар По, но если По изображает непредсказуемые характеры, то Симмс — поспешные желания. По говорит о мире проклятья, Симмс — о мире неудавшегося исправления людей. Удрученность, угрюмость, при этом лишенная настоящей задумчивости, как и придирчивость без всякого азарта, — вот с чем мы встречаемся в мире американского писателя.
Где Рид или Купер напишут «он возмутился», Симмс скажет «он весь уже исходил желчью». Где другой скажет «он вскочил на коня», Симмс — «он еще раз решил попытать счастья в дороге». Где в любом романе будет «он отвечал раздраженно», Симмс окажется аналитиком: «он не мог, да и не хотел скрывать раздражения». Аналитизм сразу напоминает об Эдгаре По, а гиперболы — об Уитмене, тоже ценителе прозы Симмса; но только в прозе Симмса это не художественные приемы, а единственный способ придать движение сюжету. Действовать может человек, который не просто раздражен, а весь наполняется раздражением, но при этом продолжает выполнять задание — и этим вдохновляет других на действие. А иначе мрачные и подозрительные герои никакого сюжета не составили бы и даже знамя великих целей их никуда бы не повело.
Симмс писал очень много, часто под псевдонимами. Плантатор, рабовладелец, сторонник Юга в гражданской войне, успешный садовод, вспыльчивый и остроумный поборник воспитания вкуса, все это он. Марина Эрштейн во вступительной статье сравнивает его избыточный стиль письма с током ямайского рома — не стоит и напоминать, что ром служил не только буйному веселью, но и дезинфекции ран. Возможно, если Купер, Рид и даже По были в душе учителями, то Симмс — врачом, не в том только смысле, что он наблюдал симптомы, но и потому что верил, что приращение знаний об окружающем мире не менее целительно, что их методическое изложение.
У Симмса нет ярких контрастов и геометрически продуманных композиций, как у других писателей фронтира, у него нет рифм внутри сюжета. Но у него есть другое — постоянное внимание к тому, как могли бы развиваться события: вот оттуда мог бы раздаться выстрел, вот там можно было бы выбрать удобную позицию в бою. Там где герои Рида все правильно решают, быстро ориентируясь в обстановке, герои Симмса мечтают, бормочут под нос, делятся размышлениями, забываются, хотя эта задумчивость оказывается иногда вернее мгновенного принятия однозначных, но не всегда лучших решений. Но не таким ли должен быть старый американский классик для наших дней — рассказывающий о том, как человек «был очень страстным, порывистым, здравомыслящим» — будто это и не всадник с головой, а современный менеджер?
Конец воздержанию. Книга о барах, коктейлях, самовозвеличении и о прелести декаданса. Составители Ансельм Ленц, Альваро Родриго Пинья Отей. Перевод с немецкого Т. В. Зборовской. СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2018, 160 стр.
Ироническая книга, пародирующая ресторанное алкогольное меню (книга и издана в удлиненном формате) и сборник высоколобых детективов, поражает прежде всего стилем. Мы привыкли со времен «Пира» Платона, что где вино, там необязательные разговоры, шутки и подрыв любой авторитетной речи. Но книга, составленная несколькими немецкими интеллектуалами, напротив, показывает, что алкогольные перформансы всегда серьезнее безалкогольных.
Прежде всего, выпивший человек начинает сожалеть о том, что жизнь его не сложилась как надо бы. Затем он начинает хвастаться, затем строить планы и наконец напивается до такого состояния, что разве совестливые собутыльники простят ему такое безобразие.
Так вот, в книге «Конец воздержанию» доказывается, что выпивоха не одинок в своих страданиях. Алкогольные напитки еще неудачливее: ни один из них не употребляется по назначению, с теми чувствами, с которыми он был создан. Людям кажется пошлым смаковать вино, и они пьют его с едва сдерживаемым раздражением. История вина кажется состоящей из невероятных легенд, и поэтому выпившие люди, вместо того чтобы вдохновляться легендами на здоровое веселье, гоняются за несбыточной мечтой. Ведь они прокляли вино, объявили его историю фантомной, и теперь находятся в плену собственных мучительных фантомов. Вино пытается похвастаться своим происхождением, так ему не верят, и даже вполне пьяным оно стать не может, обязательно кто-то не захочет положить конец воздержанию.
Посочувствовать алкогольным напиткам как романным героям — одна из задач книги. В результате роман оказывается вывернут наизнанку швами увлеченных эссе, бойких, невероятно эрудированных и желчных. Но другая задача — показать, сколь незрелыми оказываются те характеры, которые мы привыкли встречать в романах. Все эти влюбленные юноши, солидные чиновники, преданные делу музыканты — все они цепляются то за жизнь, то за наслаждение, то за мечты о роскоши, то за последнюю прочитанную книжку и услышанную реплику. Они, казавшиеся нам взрослыми, не знают даже подростковых колебаний воли, не то что взрослого самообладания. Что нам прежде казалось раскрытием характера выглядит лишь трусостью, тем более очевидной при зачитывании вслух причудливо сверстанных пародийных рецептов.
Исаак Ньютон. Толкования на пророчества Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова. Перевод с английского В. Г. Рохмистрова. СПб., «Пальмира», 2018, 430 стр.
Амбициозный проект Исаака Ньютона создать всемирную историю не только прошлого, но и будущего, до сих пор будоражащий воображение сторонников «новой хронологии», на самом деле держался на двух скептических столпах. Во-первых, в Евангелиях не было никакой настоящей хронологии: даже не понять, сколько лет Иисус проповедовал, один, три или много. Во-вторых, если начало события еще привязано к соседним событиям и может быть датировано, то конец его часто неясен: когда закончилось великое переселение народов или когда окончательно распался какой-то политический союз. История — просто искусство подменять концы началами: Октавиан Август объявляет эру мира и почему-то считается, что гражданских войн с тех пор не было. Триумфальная история с проясненной хронологией по великим правителям, согласно Ньютону, идет вразрез с библейским благочестием, которое все — о последствиях человеческих поступков, об исходе бытия и о конце мира, а не о начинаниях великих людей.
В Средние века пророчества Даниила уже понимались как схема всемирной истории: образ истукана из четырех металлов соотносили с историей четырех мировых держав: Вавилона, Персии, Греции и Рима. Но для Ньютона ни Александр Македонский, ни Цезарь — не миродержцы, а властители полумира: они все имели дело с миром, разделенным географическими границами. Не все реки можно форсировать, горы — перейти, а моря — переплыть.
Из этого Ньютон делал вывод, что пророчества надо понимать не как разговор о конечных судьбах истории всего человечества, но как историю политического доверия: как именно доверие к царям или пророкам перекраивает карты таинственных мировых судеб. Бог для Ньютона, как создателя современной науки, — предмет исключительно веры, а не знания; но не веры как требования морального сознания, а веры как доверия, из которой уже следует совершенствование социальной организации. Например, Юстиниан смог стать великим законотворцем, потому что научился чтить святых, доверять слугам Божиим почти как Богу, а значит, переплавить дружбу и почтение в норму права.
Тогда и Страшный суд для Ньютона — не отчет, который Господь внезапно требует от людей, но тяжба против людей, растративших всю свою одаренность на войны и нестроения. Ньютон стремился написать книгу, в которой причины войн были бы так хорошо объяснены, с опорой на Откровение Иоанна Богослова, что людям просто бы не захотелось больше воевать, они предпочтут быть внимательными к своим талантам, и первым знаком внимания станет ясная хронология.
Немного странное впечатление производят в книге комментарии, в которых о Ньютоне и его источниках говорится мало, зато приводятся пространные цитаты из Мережковского или Флоренского, с целью показать, что они иногда мыслили почти как Ньютон. Конечно, Мережковский знал книгу Ньютона, но, наверное, вопрос об исторической культуре Мережковского требует статьи, а не легкомысленного примечания.