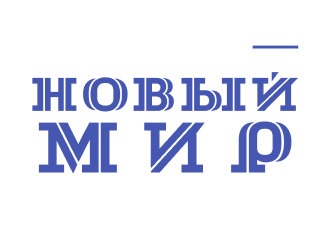Варава Владимир Владимирович родился в 1967 году в Воронеже. Окончил Воронежский государственный педагогический университет. Доктор философских наук, профессор Московского православного института святого Иоанна Богослова. Автор многих статей и книг, в том числе «Неведомый Бог философии» (М., 2013), «Адвокат философии» (М., 2014). Живет в Москве.
Эссе, составившие данную публикацию, входят в книгу «Седьмой день Сизифа», которая готовится к выходу в 2018 году. Эссе из книги публиковались в «Новом мире», 2017, № 12.
Владимир Варава
*
ПОХИЩЕННАЯ СМЕРТЬ
Танатологические
будни современности
Но не самое ли позорное невежество — воображать, будто знаешь то, чего не знаешь?
Платон, «Апология Сократа»
Только смерть нас одна собирает...
И. Бродский
Смерть, как это ни странно, оставаясь, в сущности, ничем, продолжает оказывать определяющее влияние на жизнь. В этом ее непреходящая власть, извечный парадокс и какая-то жуткая энигматичность. «Невидимая рука» смерти управляет жизнью, направляя ее в то русло, которое всегда расходится с ограниченными планами и намерениями смертных, решающих время от времени сбросить бремя смерти и пожить в качестве «бессмертных». Сила смерти в ее всегдашней непостижимости.
Почему не умирает Сизиф? Не потому ли, что он несет не только проклятие бессмысленного труда и, соответственно, всей жизни, но и потому, что обременен тайной смерти? И не умрет он никогда, пока не будет разгадана эта тайна. А будет ли, а должна ли?
Но Сизиф ведь никогда еще не выступал в роли хранителя тайны смерти…
Сегодня люди умирают так же, как и всегда. Со смертью ничего не произошло, но жизнь все-таки изменилась. Современность существенно отличается от прежних эпох. Уже Роберт Музиль в начале XX века почувствовал незримое, но такое разящее отличие от только что ушедшего XIX столетия. В «Человеке без свойств» герой ощущает перемену, «какой-то всеобщий спад», но он затрудняется сказать, в чем состоит эта перемена. Возможно, что жизнь даже и улучшилась. Но что-то утрачено. «Что же утрачено?» — вопрошает он. И отвечает: «Что-то невесомое… ощущение такое, словно изменилась кровь или изменился воздух, таинственная болезнь сожрала небольшие задатки гениальности, имевшиеся у прежней эпохи…»[1]
«Невесомое» — очень точное слово, вскрывающее самый нерв незримых изменений, которые нельзя определить, но результаты которых разлиты повсюду. Но сегодня это невесомое стало вполне ощутимым. Суть его можно было бы выразить так: повседневность и основывающаяся на ней господствующая культура не терпят тайны, непонятного, непостижимого в самом существе бытия, она разжигает страсти вокруг «жгучих тайн», загадочного, мистического, эзотерического, оставляя главную проблему человеческого существования нетронутой. Но если раньше было смиренное понимание границ человеческого познания и поэтому «ученое незнание» было знаком мудрости, то информационная эпоха не оставляет человеку ни малейшего шанса на «незнание».
Сегодня «известно» все, и смерть, как «вещь среди других вещей», теряет свои метафизические привилегии, превращаясь в рыночный товар, в один из наиболее ходовых продуктов медийной культуры. Это, по сути, самая сильная катастрофа смысла, которую переживает человек. Современная вульгаризация смерти во многом связана с тем, что прежние концепты относительно рождения и умирания, а соответственно, смысла жизни и посмертного бытия просто перестали работать и оказывать какое бы то ни было значимое влияние на жизнь и культуру. Последняя достоверность существования, которая происходила из некоего «знания» о смерти, потеряла сегодня всякую силу. А смерть осталась неприступной: ни ее сущность, ни ее происхождение, ни ее смысл так же неизвестны человеку, как это было в истории всегда.
При этом невероятно разрослась жажда жизни и сопутствующий ей страх смерти, поскольку никого не интересует сама смерть в ее непостижимой тайне. И уж тем более сегодня никто не желает смерти как блага, смерти как избавления от «болезни жизни» (жизни как болезни) и поэтому убегают от нее в самую толщу искусственного и виртуального, где она хоть и щекочущая нервы, но, в сущности, безопасная игрушка.
Возможно, для Сизифа благо смерти виделось не в том, что смерть выступала как способ избавления от муки бесцельного существования, но и в чем-то еще. Страдания Сизифа заключались не в одной лишь обреченности на бесконечное свершение одного и того же — бессмысленного труда, но и в том, что боги лишили его высшего блага — возможности умереть.
Сизиф хотел бы умереть, но не может; постсизифов человек может умереть, но не хочет. Такова метафизическая инверсия истории, в которой базовые концепты («начала и концы») поменяли свой аксиологический знак.
Да жив ли Сизиф? Кто сегодня еще «ведает» тайной смерти, кроме него?
«Слишком много смерти — слишком мало смысла» — так можно кратко описать сложившиеся сегодня взаимоотношения культуры и смерти. Смерть, стыдливо прячась за траурным покрывалом и могильной плитой, всегда нашептывала таинственные смыслы, способствуя порождению подлинного разнообразия культуры. Сознание замирало в священном трепете перед ее величественным взором и уходило в тихую глубь несказанного. Сегодня все иначе: медийное пространство помимо политических, экономических и культурных новостей насквозь пропитано смертью. Как будто это самое легкое и обычное явление. Смерть буквально фонтанирует из всех малейших закоулков культуры, став бесстыдно секулярным феноменом. Произошла тотальная десакрализация смерти, которая странным образом обернулась сакрализацией секулярного, прежде всего сакрализацией секулярной смерти. Смерть, потеряв священный ореол таинственного, повлекла за собой все остальное, превратив религиозное в мирское, а мирское в религиозное.
Именно на горизонте западной культуры это стало более всего заметно. Ж. Бодрийяр, анализируя эти процессы, говорит, что смерть лишается уважения. Более того: «Смерть больше не вызывает головокружения — она упразднена. И огромная по масштабам коммерция вокруг смерти — больше не признак благочестия, а именно знак упразднения, потребления смерти»[2].
П. Слотердайк отметил, что даже такие неподвластные Абсолюты, как рождение и смерть, попали в ведение человеческой воли: «…даты рождения и смерти как таковые не отсутствуют никогда. Это — высшая маркировка, превзойти которую нельзя, — отмеченные точки соприкосновения случайного и безусловного. И тем не менее современность показывает, что пришли в движение даже эти метки мест нашего соприкосновения с тем, что не в нашей власти. Как ни одна цивилизация прежде, современная цивилизация стремится передвигать пограничные знаки. Рождение становится планируемым, смерть в определенных границах можно отодвинуть…»[3]
Оказалось, что культура не смогла удержать сакральность смерти на недоступном для иронии и анализа месте. Но это свидетельствует также и о том, что религиозная сакрализация смерти, бывшая доминирующий долгое время, не явилась полной истиной смерти. Ведь смерть традиционно находилась в ведении религии, и при этом последняя не сохранила ее внутреннюю тайну как абсолютную непостижимость, всегда перенаправляя метафизический испуг и удивление человека в сторону постсмертного состояния.
В религиозном опыте смерть предстает как амбивалентный феномен: с одной стороны, здесь максимальная концентрация «страха и трепета», не позволяющая слишком откровенно заглядывать по ту сторону, а с другой, все же есть желание хотя бы частично приоткрыть завесу смерти, что приводит в конечном счете к тому, что вера превращается в знание о жизни «после смерти». Религия не удерживает смерть в своей наиболее важной точке, точке высшего скрещения трагедии, надежды и тайны. В конечном счете, здесь смерть — процесс перехода в иное, потустороннее, загробное, и забота религии заключается в том, чтобы обеспечить этот переход самым правильным образом.
Оставляя за бортом старые и во многом бессмысленные споры «верующих» и «неверующих» о существовании Бога, души и бессмертия, то есть о возможности/невозможности существования «после» смерти, нужно сказать, что ни те, ни другие никогда не рассматривали само существо смерти. Смерть как смерть в триединстве тайны, трагедии и надежды никогда, по существу, не касалась ни религиозного, ни — его антипода — научного мышления. И поэтому в религии, как и в науке, нет понимания сущности смерти, но есть лишь бесплодный нескончаемый разговор о том, что «после» смерти.
Как будто понятно, что такое сама смерть?!
Разговор о «загробном» существовании в модусе pro et contra является первой исторической формой профанации тайны смерти, ее абсолютной непостижимости. Стрелки часов переведены с проблемы на ее последствия при нерешенности самой проблемы. Бытие или не-бытие «после смерти» — это возможные «последствия» смерти, при том условии, что понятно, что такое смерть, каково ее происхождение, назначение, сущность и т. д. Но как раз это и непонятно, и здесь мы встречаемся лишь с многообразными танатологическими мифами культуры.
Танатологические мифы порождают и теологи, и психологи, и ученые, которые, в отличие от писателей, имеющих право на художественный вымысел как непременный элемент эстетического целого, выдают свои представления о смерти за нечто достоверное и доказанное. Часто не понимая, что именно недоказанность, невозможность что-либо доказать, связанное со смертью, и является главным ее преимуществом. Иными словами, танатологический миф — это не миф в смысле Алексея Лосева как «в словах данная чудесная личностная история»[4], и даже не в смысле Алексея Ремизова как «история человеческого вдохновения»[5], но как определенное знание, добытое не из анализа бытия, но из фантазий по поводу небытия. То есть танатологический миф — это мифическое знание в своем наичистейшем виде.
Очень долгое время в европейской культуре, преимущественно в рамках христианского платонизма, вопрос о смерти человека сводился к вопросу о бессмертии души, точнее, к доказательствам ее бессмертия. В этой традиции опираются либо в большей мере на разум, на логическую, рациональную аргументацию, либо на авторитет и веру. В любом случае даже если здесь речь идет о вере, то в конечном счете все всегда сводится к знанию. Вот, например, как рассуждает знаменитый итальянский философ XVI века Пьетро Помпонацци в духе «доказано только верой»: «…бессмертие души есть догмат веры, как явствует из „Апостольского Символа” и из „Символа Афанасия”; следовательно, оно должно доказываться средствами, присущими вере. Средство же, на которое опирается вера, есть откровение и каноническое писание».
Но если человек сомневается, не имеет веры, одним словом, несведущий относительно того, бессмертна душа или нет, то он, по совету Помпонацци, должен обратиться к «доброму и сведущему человеку». Это, конечно же, последователи Христа, среди которых он называет апостола Павла, Дионисия Ареопагита, Оригена, Григория Великого, Августина Блаженного и т. д. Они, по мнению Помпонацци, «помимо знания вещей природных обладали также знанием божественных вещей»[6]. Все дело в том, что речь все-таки идет о знании, о знании того, чего в принципе знать нельзя. Конечно, все эти великие авторы были не так ригористичны относительно именно знания о бессмертии души, нежели менее именитый Помпонацци, но он, будучи толкователем и комментатором, репрезентирует распространенную точку зрения, что о таких божественных вещих, как «бессмертие души» можно что-то именно знать.
Современное православное богословие также исходит из достаточно определенного «знания» о причинах смерти: «В духовно-телесной природе человека произошел необратимый процесс разлада и разъединения духовной и телесной жизни. Физическая смерть явилась неизбежным следствием этого разъединения»[7]. Продолжается и традиция подкрепления религии научным авторитетом. Например, А. И. Осипов пишет: «Сейчас, ввиду большого количества фактов, накопившихся в медицинской науке (не фантазий сродни народному фольклору, а вполне достоверных фактов), — можно с полной ответственностью утверждать: существование души является бесспорной научной истиной»[8]. Речь здесь идет не о вере, но о знании, которое по форме мало чем отличается от естественнонаучного.
Совершенно далекий от догматики и ортодоксии, но с не меньшей догматической уверенностью о том, что такое смерть, говорит известный трансперсональный психолог Станислав Гроф: «Для индуистов и буддистов, как и для непредубежденных исследователей сознания, перевоплощение не вопрос веры, но эмпирическое заключение, основанное на совершенно конкретных переживаниях и наблюдениях»[9]. В обратном ключе, но с большой самоуверенностью говорила о смерти и советская танатологическая мифология. Так, известный ученый-реаниматолог В. А. Неговский писал: «Марксистская философия давно решила вопрос о смерти как о закономерном и естественном завершении жизни. Марксистская философия решила и вопрос о бессмертии: после смерти человек остается жить в результатах его творчества, в совершенных им делах»[10]. Сам механизм смерти, ее сущность и функция всегда объясняются в терминах биологического детерминизма: «Смерть пришла к нам, как одна из форм внутреннего приспособления к эволюции жизни»[11].
И такого самоуверенного «знания» о смерти очень много.
Онтологический вопрос о смерти в танатологических мифах не только не решен, он даже и не поставлен, и поэтому все споры о «последствиях», то есть о том, есть ли жизнь «после» смерти или нет, не то чтобы преждевременны, они в корне бессмысленны. Понять это помогает философия, избавляя человека от идолов, иллюзий, различных форм искаженного сознания. И сегодняшний отказ культуры от философии в пользу «знания» — наиболее зримое свидетельство желания жить в иллюзии, на этот раз в танатологической иллюзии относительно абсолютной прозрачности и незначимости смерти.
Очень глубоко о вопросе бессмертия души именно с философских позиций высказался Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате»: «Бессмертие человеческой души во времени, то есть вечное продолжение ее жизни и после смерти, не только никак не подтверждается, но не оправдывает всегда возлагавшихся на него надежд и в качестве допущения. Живи я вечно — разве этим раскрывалась бы некая тайна? Разве и тогда эта вечная жизнь не была бы столь же загадочной, как и нынешняя?»[12]
Обращение к философии, не к той или иной «философии», а к самой философии как таковой, которая представляет человеческий удел, раскрывая смысл его присутствия, так вот, обращение к философии показывает, что лишь она одна удерживает тайну смерти в ее неприступности и непостижимости, понимая ни с чем не сравнимое значение именно смерти для философии и, соответственно, для жизни человека. Недаром Шопенгауэр назвал смерть «мусагетом философии», сказав, что «…вряд ли люди стали бы вообще философствовать, если бы не было смерти»[13].
Но философия, в отличие от науки и религии, ничего не говорит конкретного о смерти. Это вызывает разочарование и недоверие к философии у человека, который склонен в своей повседневной психологии не к философствованию, а к действию. И если философия не дает ему конкретного знания о смерти, а наука и религия дают, то он выбирает эти последние, а не философию. Примечательно то разочарование даже среди интеллектуалов, которое вызвала невиданная в истории книга французского философа Владимира Янкелевича «Смерть», когда она вышла, поскольку в ней не было конкретики о «потустороннем существовании».
Понимание того, что смерть, возможно, дана не для узнавания того, что следует за ней, а для удивления перед чудом существования, которое смерть небытийно обрамляет, это понимание присуще исключительно и по преимуществу философскому взгляду, утрата которого означает низведение смерти, а соответственно, и жизни на крайне вульгарный уровень.
Когда говорят о первоистоках связи философии и смерти, то, как правило, обращаются к Платону, к его мысли о том, что «философствование есть размышление о смерти». Об этом он говорит в диалоге «Федон»: «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним — умиранием и смертью»[14]. Но это не некрофилическое пристрастие или извращенный аскетизм, но понимание того, что смерть таит в себе нечто, способное пролить свет на истину бытия.
Тайна смерти хранит последнюю истину человека, не позволяя ему раствориться в бесконечности кривых зеркал, отражающих слишком человеческие представления, не о смерти, конечно, но о «загробном бытии», о «жизни после смерти». А тайну смерти хранит философия, сохраняя тем самым сокровенное, в котором человек чувствует свою подлинность и достоверность. В этой тайне, тайне смерти самая заповедная надежда человека, в ней его ностальгия, боль и радость, в ней какое-то предощущение нездешней радости, которая все простит и оправдает, подарив смысл и счастье. Никогда смысл и счастье не стоят рядом, и лишь смерть в своей абсолютной тайне дает надежду на это. Современность отбирает у человека эту надежду, отбирая тайну, тайну как таковую и тайну смерти.
Когда же наступил тот важнейший «исторический момент», когда пришло понимание полной катастрофы смысла человеческого существования, связанного с ясным осознанием, даже озарением относительно того, что в вопросе о смерти человек потерпел полное фиаско?
Так или иначе, но все метафизические тропы ведут к Ницше, к его откровению о «смерти Бога», за которым стоит, конечно, не «физическая» смерть Бога (как абсурдно полагают атеистические интерпретаторы этой идеи), но смысловой коллапс человечества. Это гораздо более серьезный культурный и духовный катаклизм, в полной мере еще не осмысленный. Бог, как хранитель знания о смерти и, соответственно, об истине жизни и ее смысле, умер, то есть разрушилась та ценностная система культуры, которая обеспечивала человеку смысл его бытия. В действительности в центре мира был не Бог, а смерть, вернее, ее знакомый образ, созданный религиозным воображением. И когда «умер Бог», то на самом деле произошло падение смерти. Но вырвавшаяся тайна не успела освоиться на просторах культуры, став вульгаризированной и коммерциализированной одновременно. Смерть стала работать на новую культуру.
«Разбегаемся все», — точно говорит И. Бродский, и лишь одна смерть обладает неизбывной центростремительной силой. Но, перестав быть тайной, смерть утрачивает свою нравственную власть собирания людей вокруг трагедии и горя, разбрасывая их по частным клеточкам одного безликого мира, в котором каждый индивидуально переживает свой собственный страх, радуясь, что его пронесло на этот раз.
Был ли это «исторический детерминизм» или «Промысел Божий» — не известно, да, вообще, и не важно. Главное, что смысл жизни, основанный на совершенно определенной идее смерти, оказался не абсолютным. Но религиозная традиция сохраняла сакрализацию смерти, которая все же вселяла тот метафизический ужас («страх и трепет»), который не позволял относиться к смерти инструментально. Разрушение религиозной сакрализации смерти, безусловно, профанировало смерть и открыло широкую дорогу для ее научной интерпретации. Наука взяла реванш, но ненадолго. Научный смысл смерти по сравнению с религиозным оказался гораздо более примитивным, мало соответствующим природе человека. И если эта природа надолго совпала с религиозным смыслом, то с научным она совпасть в принципе не может.
Неприрученная смерть попадает в руки массовой культуры, в которой уже не ученые-жрецы и не жрецы-ученые определяют путь и смысл человеческой жизни, а политики, юристы, экономисты и журналисты. И такая культура подчиняет себе смерть. Религия претерпевает невиданную секуляризацию, а философия превращается в танатологию.
Танатология (в семантике самого слова заключается идея познания, более того, знания смерти — «логия», как, например, «биология», «геология», «политология» и т. д.) означает радикальное отрицание философии с ее фундаментальным сомнением и итоговым незнанием, прежде всего того, что касается смерти. Как раз танатология претендует именно на полное знание о смерти, которое поможет современному человеку манипулировать ей сообразно своим целям и желаниям. В танатологии смерть перестает быть тайной, а значит происходит уже не только религиозная десакрализация Божественного, но философская десакрализация Бытия. Не только смерть, но и жизнь, существование, Бытие как таковое перестают быть тайной, а становятся инструментом политико-технологического влияния для достижения целей усредненной культуры.
Итак, мы существуем в мире похищенной смерти. Это не может не уродовать жизнь, ее подлинные живые основы. В современном био- и экономоцентричном обществе смерть становится «вещью среди других вещей»: ее можно бесконечно показывать на экране, о ней можно сообщать в новостях, писать книги и статьи, защищать диссертации, устраивать шоу, то есть делать ее максимально прозрачной, управляемой, естественной и банальной. Конечно, остается еще страх и даже ужас перед смертью, но это не «страх и трепет» как могучий духовный инстинкт, поразивший всех великих мира сего. Это мелкий ужас, как мелкий бес, по сути, «ужастик», дающий разрядку от интенсивного социального напряжения.
Именно сегодня произошло невиданное ранее смешение религии, экономики, техники и права в вопросе о смерти. Под лозунгом «права на достойную смерть» современная биологизированная культура на самом деле лишает человека не только свободы выбора, но вообще малейшей возможности вдумчивого отношения к своей жизни и смерти. Биоцентризм, помноженный на экономизм, побеждает. И теперь смерть человека — это вопрос денег. Трансгуманистическая крионика, бесконечное продление жизни, физическая победа над смертью — вещи не только чудовищно абсурдные, но еще и недешевые. Не за горами новая социальная стратификация: бедные неудачники, обреченные на то, чтобы сгинуть в ничто и состоятельные, но ничего не понимающие бессмертные «счастливцы», подгоняемые лишь жаждой вечных удовольствий.
Это и есть победа
культуры над смертью, виртуальная победа
при полном метафизическом и этическом
поражении человека. Смерть как духовная
ценность, придающая жизни осмысленность
и возможность действительно личного к
ней отношения, исчезает на глазах. «Спаси
свою смерть» — таким, наверное, должен
быть девиз сегодняшнего времени. В
принципе, христианство, «смертью смерть
поправ», способствовало нимало современной
метафизической профанации смерти. И
если Христос избавил нас от смерти, то
Сизиф может вновь приблизить нас к ней,
к ее вечной тайне.
Книжный
Бог
Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы бога знаете по книгам и преданьям…
П. А. Вяземский
Наше неумеренное воображение, в зависимости от того, какой путь выбирает — отрицания или утверждения, — делает Бога поочередно то Великой Пустотой, то Великим Зодчим
Ж. Старобинский, «Чернила меланхолии»
Несмотря на весь теологический оптимизм постсекулярной эпохи и даже на такие мощные философские изыскания по поводу истиной религиозности, какие, например, можно встретить у Мартина Бубера (и, конечно, не только у него), следует все же признать: религиозная эпоха ушла в прошлое. В каком-то самом общем смысле, простом и понятном без всякой изощренной аналитики, стало ясно, что религиозное иссякло, разделив участь со всеми великими проектами человечества. Вечными остаются лишь «вечные ценности», которые в современную эпоху слабо совместимы с религиозным миропониманием.
Религия (и не только христианская, но в принципе) уходит совсем не потому, что победил материализм, доказавший небытие Бога, и не потому, что идеология Просвещения избавила человека от мрака «религиозных предрассудков», выведя его на путь гуманизма и прогресса. Сегодня как раз наблюдается обратное: скорее научная картина мира терпит крах, нравственное состояние мира не прогрессирует, но очевидно регрессирует, а религиозное сознание переживает ренессанс. Именно как победа над секулярным мировоззрением трактуется сегодняшнее религиозное возрождение.
Несмотря на это вполне очевидное возбуждение религиозного инстинкта, проснувшегося после догматической спячки, в которую его погрузил искусно смонтированный, но совершенно безжизненный научный атеизм, само «религиозное» исчезает. Того религиозного, которое было долгое время не только «столпом и утверждением Истины», но и реальным смыслом, обладавшим творческой и духовной энергиями, и поэтому оказывавшим определяющее влияние на жизнь и культуру, так вот такого религиозного уже нет. Это стало очевидно уже Ф. Ницше, который вынужден был произнести скандально и печально известные слова о смерти Бога. Да и в России в XIX веке это чувствовалось остро и болезненно; поэтому и трагедия творчества и веры у таких людей, как Гоголь и Леонтьев, и стремление возродить и обновить христианство у Федорова, Соловьева и Бердяева, и эксцентричные религиозно-философские искания Розанова и Шестова, и моральное негодование Толстого против лицемерия официальной религиозности, и тоскующе-депрессивный взгляд Чехова и Андреева на обезбоженнную реальность, и слезы Достоевского, написавшего в гуще православной жизни страшную историю про гибель мальчика в рождественскую ночь.
В XX веке Роман Гвардини говорит о пустоте, образовавшейся «на месте религиозного излучения», поскольку христианская вера потеряла общепризнанную истинность. Он пишет об этом так: «Истинность христианского Откровения все более ставится под сомнение; все решительнее оспаривается его значимость для формирования и устройства жизни»[15]. Следствием этого, продолжает Гвардини, с одной стороны, является возникновение «автономного мирского бытия», а с другой, «формируется чисто религиозная религиозность», которая теряет непосредственную связь с конкретной жизнью, не оказывая на нее никакого духовного влияния и замыкаясь исключительно на отправлении религиозного культа.
«Религиозная религиозность» и есть по преимуществу наиболее распространенная форма религии сегодня, которая не оказывает реального, то есть экзистенциального влияния на жизнь человека. Человек по большей части живет так, словно никогда никаких метафизических вопросов и не существовало. Питер Уотсон в книге с весьма говорящим названием «Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло», обобщив громадный опыт духовных исканий многих интеллектуалов последних двух столетий, делает интересные и важные выводы. Признавая, что в каждом человеке есть «метафизический импульс», он говорит, «что из этого не следует, что каждого человека волнуют те проблемы, которые так сильно мучили Достоевского и Ницше. Эти вещи действительно волнуют — и волнуют глубоко — многих людей, но не всех»[16]. Более того, «…множество людей — быть может, самых добрых и законопослушных граждан, — продолжает он, — не видят в смерти бога ровно никакой проблемы. Мысль, что бог мертв, не наполняет их ни тревогой, ни трепетом. <…> Они просто живут — день за днем, месяц за месяцем: как-то сводят концы с концами, радуются жизни, когда есть чему порадоваться, а метафизических проблем, которыми так озабочены их ближние, вовсе не замечают. Они не ждут, что человечеству когда-нибудь удастся разрешить «великие вопросы», и не тратят времени на прояснение их для себя. В сущности, это самые далекие от религии люди — и, быть может, самые счастливые»[17].
Никто, конечно, не вправе требовать от человека духовных подвигов и метафизических исканий. Культура, в конце концов, всегда делилась на тех, кто творит, и тех, кто не творит и даже не всегда потребляет то, что сотворено другими. Но сегодня ситуация иная. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы убедиться в правоте выводов П. Уотсона. То, что «мучило Достоевского и Ницше», сегодня, увы, не мучает ни «духовную», ни «творческую» элиту, которая поддалась в общем-то блаженной беспечности существования, низведя свой «метафизический импульс» до предельно низкого уровня. Таков определяющий стиль эпохи, и редкие яркие исключения, увы, не определяют этот стиль.
Если в прежние времена, когда христианство творчески вдохновляло культуру, в центре мироздания был человек в своей «духовной ипостаси», то в постсекулярную эпоху таковым становится человек в пространстве повседневности, где главными являются экономические и психологические модусы существования. «Хомо экономикус», так или иначе, доминирующий антропологический тип сегодня. Такой человек смотрит на спор между религией и атеизмом как на забавное зрелище, которыми переполнена современная медийная, то есть массовая культура, в принципе, безразличная к метафизике. Собственно говоря, это констатация того факта, что истина, которая трансцендентна по своей природе, перестала играть какую бы то ни было значимую роль в жизни людей.
Но совсем неоправданно в этой ситуации делать выводы о «смерти человека» со всей той головокружительной и легкомысленной поспешностью, которая присуща многим современным интеллектуалам. Идея о том, что смертный вне религии и метафизики может быть счастливым, — очередная хитрость разума, чтобы оправдать свою бессмысленность. Бог мертв, а человек еще жив, и ему еще предстоит пострадать и потрудиться, чтобы испить чашу Сизифа до дна. Просто теперь эту чашу придется выпивать без религиозного анестетика; пить, как говорит Пауль Целан в «Фугах смерти», «черное молоко рассвета», и пить его нескончаемо — вечерами, в полдень, утром, ночью…
Умершего Бога нельзя воскресить, как нельзя вернуть чувства разлюбившего человека. Если уходит любовь, то ее не восстановишь «хорошим» поведением, «великими» делами, жертвами и подвигами. Тем более мольба и уговоры здесь совершенно бессильны. Возможно, что придет другая любовь, но прежней уже не будет никогда. А может быть, на место одной единственной, в которой полагался свет, истина и смысл, после ее ухода придет не одна, но многие.
Конечно, человек, которого оставила любимая или любимый, всегда ищет причины. В глубине души он осознает ледяную правду свершившегося, которую ни объяснить, ни оправдать нельзя. Но все же, как и со смертью, разум ищет объяснений. И не находит. Вернее, находит множество, но не находит истины. Со «смертью Бога» ситуация аналогичная: сколько было высказано предположений, уверенных суждений и авторитетных мнений! Однако, как правило, «вина» в них всегда возлагается на человека, на его моральное падение, повлекшее, соответственно, «духовный кризис» культуры. Как бы грешный человек довел свое грешное дело до конца: взял и убил Бога, или прогнал его, чтобы по своей человечьей воле пожить.
А вот у Хайдеггера есть такие слова: «Религиозное никогда не разрушается логикой, но всегда только тем, что бог сам ускользает (оттягивается)»[18]. Это высказывание (или прозрение!) нарушает привычную логическую (догматическую) причинно-следственную связь. Значит, закат религиозного — не дело рук человеческих, но самого Бога! А кому еще, кроме него самого, под силу такое? Разве не очень умные доводы естественно-научной идеологии и гуманистической этики могли бы разрушить «столп и утверждение Истины»?
Здесь, возможно, раскрывается подлинный смысл секуляризма. Дело не в том, что нерелигиозная картина мира оказалась более истинной, чем религиозная, а в том, что традиционные религиозные смыслы перестали работать. И разоблачил их не человек, а сам Бог! Но живой Бог, а не книжный, который стал олицетворением священного, создав прецедент исключительно книжной религии — «духовной субстанции» христианской культуры. Бог оказался задвинутым в текст, в его самую глубокую сакральную семантику, для расшифровки которой понадобились целые поколения толкователей-экзегетов, чья ученость приравнивалась к святости. Книжность и религиозность стали самыми близкими синонимами. Как же иначе, ведь «В начале было Слово…»!
Границы Бога совпали с границами текста, как у Витгенштейна границы мира совпадают с границами языка. В принципе, Бог стал интеллектуальным предприятиям с тех пор, как он стал жить в тексте, а не в истории, бытии и человеке. Все попытки вернуть Бога в сердце человека есть книжные, они же фарисейские проекты по установлению морального (начетнического) диктата над душами людей. И не случайно Николай Федоров, осознав бесплодность исторического (то есть сугубо книжного и теоретического) христианства, не осуществившего главного своего дела — победы над смертью (не символической в ритуале и празднике, а реальной — в природе и жизни), назвал всю внешнюю мораль, сформировавшуюся под влиянием этой книжной религиозности, фарисейской моралью.
Вера так и не стала делом, погрязнув в бесконечных спорах с разумом, а без дел она, как известно, мертва, и мертв тот Бог, который так и не вышел за пределы книжного (логического, теоретического и теологического) горизонта. Антитеза духа и буквы закончилась торжеством буквы. Но дух не проиграл, он просто отошел туда, куда захотел. Туда, где его уже не видно и не слышно и откуда его не достать волюнтаристски-благочестивым жестом ревнителей «духовности». Книжность восторжествовала над живым экзистенциальным опытом, над опытом богооставленности и трагическим переживанием экклесиастовой суеты.
Но зато появилась теология — законнорожденное дитя книжности, в которой «путеводитель души к Богу» и доказательства «бессмертия души» заняли место самого Бога, лишив душу возможности сомнений и вопрошаний. Вера, ставшая знанием, по крайней мере уверенностью и самоуверенностью, превратилась в скучную церковную обязанность. Ибо, продолжая начатую мысль, вера не только без дел мертва, но и без сомнений, исканий и самоотрицаний. Как раз того, чего более всего боится книжная религиозность, изгоняя всякие проявления подлинной философии из церковной ограды. Книжные люди очень хорошо помнят предостережение апостола Павла против свободы в духовных исканиях: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8). И хотя здесь речь идет о «земной», «человеческой», то есть как бы ограниченной философии, все же важно опасение против свободных исканий, которые несет в себе именно философия.
Конечно, и философия, выращенная в недрах книжности, часто сама становится одной из форм книжности, которой, как и книжной религиозности, тоже не ведом живой экзистенциальный опыт личности, предстоящей бездне. Очень много против такой исключительно рациональной философии выступал Лев Шестов, определив подлинную философию как то, что учит нас жить в неизвестности.
М. Бубер, как и многие его современники в середине XX века, стремился осмыслить ситуацию «затмения Бога», связав ее с высказыванием Ницше о том, что «Бог мертв», увидев в нем обобщение положения, свойственного всей эпохе. Это «пустота бытийственного горизонта». Оказалось, что вместо разговоров с Богом человек давно уже ведет разговоры с самим собой, по инерции выдавая это за проявления религиозности. «Бог мертв» означает, считает Бубер, что «провозглашается не что иное, как то, человек оказался не в состоянии постичь совершенно независимую от него действительность и занять позицию по отношению к ней»[19]. И поэтому Ж. Старобинский, показав зависимость религиозного сознания от «неумеренного воображения» делать Бога пустотой или полнотой[20], попал в самое уязвимое место этого сознания.
Это своего рода психологизация религиозного опыта, сведение трансцендентной реальности внутрь собственного духа, где вместо встречи с Богом происходит встреча с самим собой. Это есть знак того, согласно Буберу, что «человеческая натура разваливается». Возможно, что это и есть закономерный плод книжной религии, слишком долго приучавшей человека к религиозным абстракциям, в категориальном представлении о божественном, в котором не было не столько, как полагает Бубер, свидетельства живого опыта встречи с Богом, сколько экзистенциального опыта философского вопрошания о смысле Бытия и смысле Бога в том числе. Иными словами, книжной религиозности не хватило духа подняться на высоту вопрошаний о смысле муки Сизифова труда, в который попадают все, в том числе и религиозные дела человека.
Современная эпоха, которую упорно стремятся называть постсекулярной, как бы подчеркивая, что секуляризм низвергнут, — это не время возвращения религии или ее антипода, это время, когда становится ясно, что религиозное, как и научное дело, в равной степени есть «сизифов труд», тот самый, который обречен на поражение, поскольку никуда не ведет и никогда не достигает своей цели. Религиозный смысл жизни, вообще религиозный смысл, некогда претендовавший на Абсолют, потерпел такой же крах, как и все остальные смыслы и проекты, основанные на обыденных представлениях о жизни, смерти и смысле. Абсолют сопротивляется любым формам его приручения, объективации и теологизации, в том числе. Он сохраняется лишь в форме абсолютной непостижимости, единственный проход к которой — это надежда, и ее высшее измерение — надежда на тайну. Тайна еще не явлена как очевидность, мир всегда расколдовывает тайну, делая тайное бестайным.
Парадоксально, но религия как раз первая расколдовала Бытие и Бога, превратив таинственное в таинство, а мир в книжное знание и культ. Не зря метафора книги как образа природы и бытия является базовой метафорой религиозного мышления и религиозной культуры. К тому же «многообразие религиозного опыта» современного мира превышает всякую этически допустимую норму. Религия страдает не недостатком, а переизбытком религиозных форм, которые свидетельствуют лишь об одном — о фатальном отсутствии трансцендентного и тотальном присутствии человеческого, слишком человеческого в религиозном опыте.
Это не могло не отразиться на жизни культуры и особенно литературы. Литература вобрала в себя весь опыт «богопотери», став наиболее точным и достоверным способом манифестации того, что осталось после смерти — Бога, человека, мира, надежды… «Современный мир, лишенный иллюзий, под открытым небом, — пишет Ю. Кристева в «Силах ужаса», — разрывается между скукой и … отвращением и резким смехом»[21]. Это воплощается в фигуре Ф. Селина — писателя, о «чуде» которого с каким-то аналитическим упоением и восторгом пишет в своем эссе Кристева, пытаясь ответить на вопрос о причинах его завораживающего и трогающего письма.
Невероятно «отвратительное», но как бы единственно возможное сегодня письмо и стиль Селина заняли для него «то место, которое осталось пустым после затмения Бога, Проекта, Веры»[22]. Этот тип письма появляется в целом после того, как произошло «крушение исторических форм религий» и свершилась «первая значительная демистификация Власти», которую пережило человечество: «Демистификация возникает как закономерное завершение священного ужаса той религии, которую представляет собой иудео-христианский монотеизм»[23].
Отвращение и смех, как знаки современного мира без иллюзий, мира, пережившего демистификацию и затмение Бога, занимают центральное место в творчестве Селина. Но это уже «апокалиптический смех», как говорит Кристева, «ужасающее и зачаровывающее восклицание». Однако этот аполитический смех Селина не тождественен ни одному традиционному виду апокалиптики — ни катастрофической риторике апокалиптического жанра у греческих оракулов, ни профетической еврейской литературе, ни погруженной в катаклизмы литературе Ближнего Востока, ни христианским апокалиптическим жанрам, ни даже астральному смеху дантовской комедии и ренессансной радости Рабле… Этот апокалиптический смех Селина, говорит Кристева, есть выражение ужаса: «Апокалипсис, который смеется, это апокалипсис без бога. Черная мистика трансцендентального уничтожения»[24].
«Бес и тот сдох, — говорит Кристева в другом тексте, в романе «Смерть в Византии», — остались только опиум и кокаин, эра масс-медиа — эра наркоманов». Эти слова становятся как бы эпиграфом, прологом или квинтэссенцией духа и стиля творчества Селина, который выражает дух и стиль современной эпохи. «Путешествие на край ночи» приводит нас к пределу пределов, в котором нет ничего. Он приводит нас к пустоте, в которой уже нет самого главного, нет надежды. Можно жить без веры; так или иначе можно жить и без любви. Но без надежды нельзя; когда уходит надежда, тогда черное солнце меланхолии подступает к самым суицидально незащищенным пластам человека.
В некотором смысле это не маргинальное видение, а универсальное умонастроение, захватившее современность. Это умонастроение в принципе не предполагает религии. Религия во всем богатстве своих измерений и смыслов просто бессильна в таком мире. Религия как бы потеряла свой свет и соль, оставив человека наедине с его тьмой и глубиной. Что является свидетельством того, что в религии человек не весь и что религиозное не является последним основанием бытия. Этот упадок, или кризис религии происходит, конечно, не по причине моральной нечистоплотности «верующих» или в силу догматических изъянов, но в силу того, что в определенной момент вера разошлась с экзистенцией и, соответственно, религиозный опыт перестал быть опытом жизни, став книжным, то есть сугубо теоретическим опытом.
Он не мог не стать книжным по причине того, что чаемый и искомый дух, который как бы изначально улавливаем и удерживаем религиозным опытом, покидает его в силу своих собственных, никому не ведомых мотивов. В самой же религии нет экзистенциальных инструментов, которые могли бы удержать дух, привлечь его, заинтересовать, в конце концов. И поэтому в религии осталась только буква. Буква большая, заглавная, но всего лишь буква. Даже и не слово.
Когда и как это произошло, сказать не просто трудно, это невозможно. Духовная органика прежних эпох, которая создавалась во многом тождеством религиозного и экзистенциального, очевидно нарушена, и причем нарушена невосстановимо. Это, кстати, до Ф. Селина уже видел В. Розанов, когда написал на стыке двух столетий, что «Ни которая из Церквей и наконец все Христианство не может ответить на самые мучительные вопросы ума, на самые законные требования жизни»[25]. Едкий и пронзительный взгляд Розанова всегда раскрывает нелицеприятную правду, опережая свое время.
Не рассматривая отдельные проявления веры у людей, для которых религиозная жизнь является экзистенциально значимой, нужно сказать, что современная жизнь и основанная на ней культура не имеют в своем основании религиозного опыта, культура не происходит из культа, как наивно полагали еще недавно, но стремится к иным духовным основоположениям, в которых не столько традиционное сакральное, сколько экзистенциально-метафизическое занимает определяющее место. Вот почему творчество Селина, невообразимое сто лет назад, занимает сегодня такое важное место.
Итак, вера разошлась с экзистенцией, и поэтому религия утратила свое духовное влияние на жизнь. Книжное содержание религиозной жизни, вытеснив все остальное, стало определяющим. Но книг в мире много, и оказалось, что религиозные книги не самые интересные, важные и глубокие. Что касается главной книги, «книги книг» Библии — то путь к ней был закрыт самим же «книжниками», которые, как только она проявилась в горизонте культурного бытия, сразу же наложили на нее экзегетическое, культовое и теологическое табу, не позволив простым смертным читателям самим уяснять «священные» смыслы.
Исключение представляли свободные умы — писатели и философы. Но их было ничтожное меньшинство по сравнению с религиозной массой, которая была далека от утонченных философско-художественных прочтений и толкований Библии. Прерогатива сохранилась за теологией, которая и превратила живой опыт веры в мертвое книжное знание. Теологический абсолютизм религии просто исключал (и продолжает исключать) всякий иной, основанный на личном духовном опыте смысл жизни, который бы расходился с религиозной традицией, с ее священным писанием, данным лишь в интерпретации священного предания.
Замкнутость этой системы в том, что теология построена по принципу науки, но, в отличие от науки, которая существует в рамках различных научных парадигм, сменяющих друг друга, что и обеспечивает, в конечном счете, хоть какую-то жизненность науки, в религии, жестко цементированной догматическим каркасом, никакой смены, изменения своих начал и принципов не предполагается по определению. Религия существует столько, сколько догмат может быть действенным в истории. Но, как показал XX век, ни один из «духовных» опытов, в том числе и религиозный, не может исчерпать человека, его бездонную глубину и антропологическую непостижимость.
«Человек есть тайна», — говорил Достоевский в самом начале своего творчества, открыв для себя истину, ставшую источником бесконечно-неисчерпаемого творчества. Теологический абсолютизм, как раз наоборот, сужает метафизический и антропологический горизонт, выходя на «греховное дно» человека как его конечную суть. И не просто сужает, но, как показал Ницше, извращает подлинную суть вещей, переворачивая все вверх ногами. «У кого в жилах течет кровь теолога, — пишет он в «Антихристе», — тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно». И вообще, «кровь теологов испортила философию»[26], говорит он далее, критикуя протестантизм, как «односторонний паралич христианства», и основанную на нем философию Канта. С проекцией этой мысли мир столкнулся сегодня, когда постмодернистский водоворот утопил все благодушные проекты и теологический, как лого-центричный (то есть лого-тео-центричный), прежде всего.
«Затмение божественного света не есть его угасание; возможно, уже завтра застившее свет сгинет с глаз»[27]. Так говорит Мартин Бубер, заканчивая книгу «Затмение Бога». Он надеется, так же, как и Мартин Хайдеггер, как надеялись Ницше и Достоевский, как надеялись русские философы и писатели, как надеются все те, кто понимает, что Бог и религия уже не совпадают в точке своей духовной, этической и метафизической сопричастности. Если и произошло затмение Бога, дошедшее до его крайних пределов, в которых стала видна его смерть, то это затмение книжного Бога книжной религии. И чтобы дать дорогу свету, нужно устранить то, что ему препятствует.
«Как, религия есть препятствие на пути к Божественному свету, а не путь к нему?» — возмущенно воскликнут староверы, адепты и почитатели книжного Бога. А не вынашивает ли Сизиф эту простую, но такую мучительную истину, которая становится очевидной, когда люди расстаются со своими главными иллюзиями?
Есть «сизифов труд»,
а есть труд Сизифа, который отнюдь не
такой уж бессмысленный и бесцельный в
свете неопределенности метафизической
перспективы существования. Религия,
как и наука исчерпали свои духовные
возможности определять жизненные
ценности на глобальном уровне, но Сизиф
продолжает свой труд в ожидании некоего
чуда, чуда своего седьмого дня, когда,
возможно, откроется в новом свете смысл
бессмысленности, когда придет
оправдание и искупление той смертельной
муке существования, которая водила
человека по кругу и никогда никуда не
приводила.
1 Музиль Роберт. Человек без свойств. М., «Азбука-Аттикус», «Иностранка», 2015, стр. 51.
2 Бодрийяр Жан. Символический обмен и смерть. М., «Добросвет», 2015, стр. 318.
3 Слотердайк Петер, Хайнрихс Ганс-Юрген. Солнце и смерть: Диалогические исследования. СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2015, стр. 162.
4 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. — В кн.: Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., «Правда», 1990, стр. 578.
5 Ремизов А. М. Огонь вещей. М., «Советская Россия», 1989, стр. 52.
6 Помпонацци Пьетро. О бессмертии души. О причинах естественных явлений. М., Главная редакция АОН при ЦК КПСС, 1990, стр. 121, 122.
7 Платон (Игумнов), арх. Православное нравственное богословие. М., Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994, стр. 143.
8 Осипов А. И. Посмертная жизнь. Беседы современного богослова. М., «Даниловский благовестник», 2008, с. 9, 27.
9 Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания. М., «АСТ», 2001, стр. 291.
10 Неговский В. А. Об одной идеалистической концепции клинической смерти. — «Философские науки», 1981, № 4, стр. 55.
11 Богомолец А. А. Загадка смерти. М., Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1927, стр. 16.
12 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., «Гнозис», 1994, стр. 71.
13 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., «Наука», 1993. Т. II, стр. 477.
14 Платон. Федон. — Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 2. М., «Мысль», 1970, стр. 21.
15 Гвардини Р. Конец нового времени. — В кн.: Феномен человека. М., «Высшая школа», 1993, стр. 287.
16 Уотсон П. Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло. М., «Эксмо», 2017, стр. 52.
17 Там же, стр. 692.
18 Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М., «Академический проект», 2010, стр. 42.
19 Бубер М. Затмение Бога. — В кн.: Бубер М. Два образа веры. М., «Республика», 1995, стр. 347.
20 Старобинский Ж. Чернила меланхолии. М., «Новое литературное обозрение», 2016, стр. 527.
21 Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб., «Алетейя», 2013, стр. 168.
22 Там же, стр. 223.
23 Там же, стр. 246.
24 Кристева Ю. Там же, стр. 242.
25 Розанов В. В. Религия и культура. М., «Правда», 1990, стр. 347.
26 Ницше Ф. Антихрист. — В кн.: Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., «Мысль», 1990, стр. 637, 638.
27
Бубер М. Указ. соч., стр. 417.