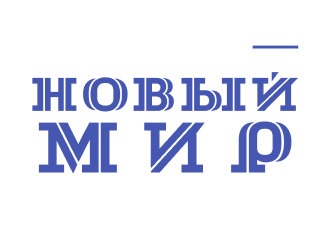*
ПРИНЦИПЫ СОЕДИНЕНИЯ
Илья Кукулин. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. М., «Новое литературное обозрение», 2015, 536 стр. («Научная библиотека»).
Монтаж — это высшее выражение обработочных сноровок, оно должно быть самым типичным для того понимания культуры, которое нужно нам; культуры, носителем которой должны быть молодые люди нашей рабоче-крестьянской революции.
Алексей Гастев, «Поэзия рабочего удара»
Машины зашумевшего времени...» кажутся оправданием самой номинации «Гуманитарные исследования», в которой Кукулин получил Премию Андрея Белого, и заодно — примером баланса научности и популярности в разговоре об искусстве.
Разговор о соотношении целого и части в искусстве бесконечен. И эта книга может использоваться как обзорная история современного искусства, систематизированная по признаку метода и его целям — «конструирующий монтаж», «постутопический монтаж» и «историзирующий монтаж» — от позапрошлого века до наших дней.
Теперь об определениях.
«У слова „монтаж” как у эстетического термина, как хорошо известно, есть два смысла: узкий и широкий. В узком смысле монтаж — это метод организации повествования в кинематографе. В широком — совокупность художественных приемов в других видах искусств: произведение или каждый образ раздроблены на фрагменты, резко различающиеся по фактуре или масштабу изображения»[1].
И хотя методы монтажа применялись в искусстве с древнейших времен, сам термин (в современном значении, пишет Кукулин, его, по-видимому, изобрел выдающийся режиссер и теоретик кино Лев Кулешов) возник «в 1916 — 1918 годах — причем практически одновременно в России и Германии, и в обоих случаях — как переосмысленное заимствование из французского, где „montage” означало „подъем” и „сборка”. Слово monteur уже в начале ХХ века имело во французском языке инженерно-технический смысл»[2].
Собственно, Кулешов и сформулировал основные принципы кинематографического монтажа, названные потом его именем.
«Первый эффект Кулешова» заключался в том, что последующий кадр меняет смысл предыдущего.
Для иллюстрации этого был снят крупный план, на котором актер (это был Иван Мозжухин) смотрел в сторону, а затем материал смонтировали так, чтобы получились три варианта: за сценой с актером следовали планы тарелки с супом, сидящей девушки и ребенка в гробу.
Зритель приписывал актеру разные эмоции, меж тем кадр был один и тот же.
«Второй эффект Кулешова» основан на том, что зритель помещает героев в то географическое пространство, какое продиктовано ему монтажом. Кулешов снял актрису Хохлову (она была его женой), которая идет по московской улице. В следующем кадре актер Леонид Оболенский двигается по набережной Москвы-реки. Они встречаются у памятника Гоголю. Затем в этот ряд монтируется вид Капитолия в Вашингтоне. Потом — последовательность кадров, когда оба героя поднимаются по ступеням храма Христа Спасителя. Этот монтаж приводил к тому, что зритель воспринимал героев входящими в Капитолий.
Дело в том, что от перемены мест слагаемых в искусстве меняется не только сумма, а вообще все.
Монтаж наиболее характерно выглядел в кинематографе — и это понятно. Сама технология кино заставляла выделить монтаж в отдельный процесс.
Если применить эти приемы к художественной прозе, то можно обнаружить, что они работают и там, хоть и менее явно.
Кстати, нарочитость монтажа двадцатых видели все. Среди множества пародий на того же Шкловского есть одна, принадлежащая Зощенко. Она называется «О „Серапионовых братьях”»:
…Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше (см. Энцикл. слов.).
В Персии верблюд может не пить неделю. Даже больше. И не умирает.
Журналисты люди наивные — больше года не выдерживают.
Кстати, у Лескова есть рассказ: человек, томимый жаждой, вспарывает брюхо верблюду перочинным ножом, находит там какую-то слизь и выпивает ее.
Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.
Теперь о Всеволоде Иванове и Зощенко. Да, кстати о балете.
Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.
В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.
Итак, движение быстрее 1/7 секунды неделимо.
Это грустно.
Впрочем, мне все равно. Я человек талантливый.
Снова возвращаюсь к теме.
В рассказе Федина «Песьи души» у собаки — душа. У другой собаки (сука) тот же случай. Прием этот называется нанизываньем (см. работу Ал. Векслер).
Потебня этого не знал. А Стерн этим приемом пользовался. Например: «Сантиментальное путешествие по Франции и Италии» Йорика...
Прошло четырнадцать лет…
Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу еще сказать о комете или о Розанове. Я человек не гордый.
Но не буду — не хочу. Пусть Дом литераторов обижается.
А сегодня утром я шел по Невскому и видел: трамвай задавил старушку. Все смеялись.
А я нет. Не смеялся. Я снял шапку (она у меня белая с ушками) и долго стоял так.
Лоб у меня хорошо развернут3.
Более того, сам метод был обнажен (будто по требованию формалистов об обнажении приема). Конечно, чисто техническое понятие монтажа надо расширить, привнести в него социальный момент. И тогда развертывание всего сложного снаряжения современного культурного работника можно провести с максимальной ясностью.
Прежде всего монтер культуры должен быть искусным разведчиком.
Зоркий глаз, тонкое ухо, хорошо воспитанные органы чувств, но при всем том главное качество — внимание; слагается то, что предрешает нанизывание культуры, — наблюдательность, способность чеканно воспринимать; это противовес ленивому созерцательному ротозейству, лежебокству. Получается тип настороженного активного наблюдателя, от которого не скрыта жизнь, она динамична, даже в ее замерзшем виде она постоянно клокочет быстрыми ассоциациями, память работает как мастерская: в голове принимают и подают, кладут в стопки и увозят, сортируют и бракуют —
пишет Гастев в своей «Поэзии рабочего удара»[4].
Формалисты (практики и теоретики), ЛЕФ, Вертов, Родченко, Эйзенштейн… Джойс.
Но вот, скажем, малоизвестный широкому читателю Павел Улитин (1918 — 1986).
В одной из своих радиолекций Дмитрий Быков говорил про Улитина: «Павел Улитин пишет в технике потока сознания, но несколько иной. Это то, что называется автоматическим письмом. Все, что приходит в голову по ходу просмотра передачи, обдумывания мысли, — это как бы заметки на полях текста. Восстановить авторскую мысль и то, что автор в это время читал и обдумывал, можно при желании — просто как бы вы по одной диагонали достраиваете весь куб»[5].
Кукулин сравнивает Улитина и Солженицына — не по общественному резонансу, разумеется, — а по типу неподцензурного высказывания. Причем и в биографиях у них много сходства: «Оба они родились в одном и том же, 1918, году на охваченном Гражданской войной юге России: Улитин — в донской станице Мигулинской, Солженицын — в Кисловодске, но, как и Улитин, вырос в Ростове-на-Дону. У них было много возможностей познакомиться.
Еще одна неожиданная перекличка в их биографиях связана с тем, что оба рано потеряли отцов: отец Солженицына погиб на охоте до его рождения, отец Улитина был убит бандитами, когда будущему писателю было два года»[6]. Защищаемым положением тут является то, что «самое главное и самое поразительное сходство состоит в том, что два этих автора, хотя и с совершенно разными целями, разработали в своих произведениях сочетание приемов, которое может быть названо гипермонтажом»[7].
Надо отметить, что Кукулин в своей книге особое место уделяет отечественной цензурной и неподцензурной литературе.
К неподзензурной литературе, по его мнению, тяготеет и пятикнижие «Голоса утопии» недавнего Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.
«По-видимому, на протяжении „Голосов утопии” дискретность текста нарастает. В первой книге, „У войны не женское лицо” (1983, опубл. 1985), приведены многочисленные монологи советских женщин, воевавших на фронтах Второй мировой войны, — без всяких идеологических и „завершающих” комментариев, которые были в работах Адамовича с соавторами.
В завершающей книге „Время секонд-хэнд”, посвященной краху СССР, монологи, по-видимому, отредактированы, но Алексиевич подчеркивает, что ее герои не могут осмыслить произошедшее в рамках целостного нарратива и поэтому противоречат сами себе»[8].
Тут наши ощущения расходятся, при том что мы оба, кажется, ощущаем силу, которую приобретает монтаж человеческих историй.
Да, конечно, это очень интересное явление — я бы даже сказал, что мы имеем дело с «феноменом Алексиевич», которое ввела в наш оборот Шведская академия. Этот феномен пока в достаточной степени не обдуман, а обдумать его мешали политические дискуссии вокруг текстов Алексиевич, доходящие чуть не до драки.
Дискуссии касались по большей части политических взглядов белорусской писательницы, и это ужасно мешает анализу феномена.
Скажем, Кукулин говорит об Алексиевич в одном из примечаний: «Так, один из ее „комментированных монтажей” включен в научную книгу по антропологии травмы — Травма: Пункты / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2009. В то же время в медиа обсуждались предположения о том, что кандидатура С. Алексиевич, уже как оригинальной писательницы, выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе»[9].
Теперь всем известно, что Нобелевская премия уже присуждена автору именно как писателю, и сразу возникает вопрос — какой род литературной работы имеется в виду?
Кажется, именно монтаж.
А вот с точки зрения монтажа, не начинают ли тут работать все те же законы Кулешова — то есть читатель думает или хочет думать, что имеет дело с монтажом документального материала, а материал перед ним редактированный, или художественный. Иначе говоря, автор с помощью монтажных приемов может радикально изменить ощущение от документа — и если в публикаторской практике мы можем ожидать следования сложившимся правилам комментирования, атрибутирования, разнице между отточиями и отточиями в угловых скобках, в общем, всему тому, что мы ожидаем от публикатора, — то в случае текста, который позиционируется как художественный, автор избавлен от обязательств.
И сохранение достоверности покоится лишь на доброй воле автора.
Вообще же автор монтажа оказывается вооружен чрезвычайно мощным оружием, покоряющим читателя, и соотношение адекватности авторской идеи и приема возникает с особенной силой. (При этом вопрос идеологической задачи в спокойном обсуждении я бы вообще вынес за скобки, как уже сказано, это вызывает из бездны демонов актуального политического невроза.)
Критерии похода к отечественной «художественной документалистике» нам еще предстоит выработать.
Есть впечатление, что автор книги «Машины зашумевшего времени...» к этой теме еще вернется.
Ну и наконец, читая эту книгу, натыкаешься на множество прорастающих из нее, будто ветки, историй — в пояснениях, комментариях или в качестве примеров. Возникает разговор о конструкции выставок. Всякая выставка — картин, статуй или вовсе любых предметов — по определению предмет экспозиционного монтажа.
Например, легендарная «Геpоическaя оборона Ленинграда», выбивающаяся из обычного жанра выставок.
Жанра, вполне освоенного «ВСХВ» — «ВДНХ» — то есть, Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой — Выставкой достижений народного хозяйства, где посетитель, входя в особые ворота, продвигался среди зданий и фонтанов не собственно даже выставки, а овеществленной идеи. Он двигался в пространстве смонтированного в Останкино нового мира и в каждом из зданий (сперва представлявших союзные республики, а потом отрасли народного хозяйства) наблюдал предметы этого мира. Это пространство было снабжено инфраструктурой живого города — и советский обыватель ел там, катался, смотрел кино, мог купить сувенир и проч., и проч.
Выставка «Героическая оборона Ленинграда» была открыта 30 апреля 1944 года по решению Военного Совета Ленинградского фронта.
Это был уже не мир светлого будущего, а мир трагедии, причем именно мир, где экспонаты были связаны воедино целыми пространствами — военные диорамы сменялись интерьерами блокадных квартир и введенным в экспозицию отечественным и трофейным вооружением — включая орудия и самолеты. По свидетельствам очевидцев, это производило весьма сильное впечатление.
5 октября 1945 года распоряжением Совнаркома РСФСР выставка была преобразована в Музей обороны Ленинграда республиканского значения[10], тоже «вполне радикальный по эстетическим решениям».
Десять тысяч экспонатов, 53 художника, но, главное, все это было единым, неформальным высказыванием от лица города, стоявшего почти три года на грани жизни и смерти.
Художественное высказывание было соотнесено с настоящим переживанием.
Но история этой выставки стала еще и одним из эпизодов «Ленинградского дела», что-то было в этом высказывании такое, что не допускало его существования в рамках официальной эстетики. Музей был закрыт, по печальной иронии судьбы, 5 марта 1953 года.
Затем в повествование (монтаж!) вплывает другая история — история известного партийного деятеля Пантелеймона Пономаренко (во время Отечественной войны начальника Штаба партизанского движения, о военной части его биографии есть немало уважительных отзывов в мемуарах бывших партизан). Так вот, он стал послом в Голландии (своего рода разновидность курорта для партийных руководителей высшего звена) и обнаруживается вдруг в центре веселого и ужасного скандала в 1962 году. Посол самолично ловил советскую перебежчицу в амстердамском аэропорту и даже дрался с полицией. Естественно, на этом его дипломатическая деятельность прекратилась, что удивительно, сама перебежчица вернулась в СССР, а через полгода вернулся и ее муж.
Нет, автор вспоминает этот эпизод буквально к слову, но хорошие книги устроены так, что, потяни за веревочку, история будет раскручиваться и вне книжной страницы.
Владимир Березин
1 Кукулин И. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры, стр. 12.
2 Там же, стр. 59.
3 Зощенко М. Сочинения. 1920-е годы: Рассказы и фельетоны. Сентиментальные повести. М. П. Синягин. Ранняя проза. СПб., «Кристалл», 2000, стр. 39 — 40.
4 Гастев Алексей. Снаряжайтесь, монтеры! — В кн.: Гастев Алексей. Поэзия рабочего удара. М., «Художественная литература», 1971, стр. 229.
5 <http://echo.msk.ru/programs/odin/1665490-echo>.
6 Кукулин И. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры, стр. 295.
7 Там же, стр. 296.
8 Там же, стр. 269.
9 Там же, стр. 268.
10 Рязанцев И. Искусство советского выставочного ансамбля 1917 — 1970. М., «Советский художник», 1976.