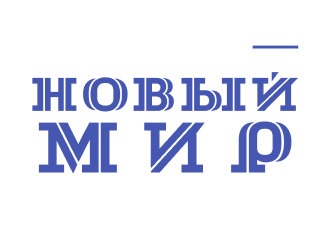Козлов Владимир Иванович родился в 1980 году. Поэт, критик, литературовед. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, доктор филологических наук. Автор поэтических книг «Городу и лесу» (Ростов-на-Дону, 2005), «Самостояние» (М., 2012) и литературоведческой «Русская элегия неканонического периода» (М., 2013). Стихи, эссе и статьи публиковались в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Знамя», «Новая Юность», «Новый мир».
Живет в Ростове-на-Дону.
Владимир Козлов
*
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Несвоевременные люди
Страна понесла потери — люди потерялись в кисловодском парке.
Ушли приблизительно в девяносто втором на прогулку.
«Берегите себя по возможности и гуляйте подольше» — им лечащий каркал.
Остальные советовали не соваться, уткнуться в свои писульки.
И они — послушались. Началось многолетнее воспитание белок,
наблюденье за ростом деревьев, прополки, зарубки,
дотошное ежедневное обсужденье методики дела,
не выходящего за пределы закатов и пешеходных маршрутов.
Снаружи их до сих пор никто не хватился, не принял меры.
На улице Современников три бедолаги торгуют орешками и платками.
Ну а в парке, конечно, никто не слыхал, как стреляли в мэра.
Инфляция, кредиты, бюллетени — сюда не проникали.
Может, честнее, надежней — просить у неба погоды.
Да и законы природы, в конечном счете, — законы.
Это они пропустили эпоху или мы — свои лучшие годы,
раз уж нарзаном и за год не смыть за день набитой оскомы? —
Кто из нас более виноват? —
Оздоровляющие терренкуры
за время с тех пор их настолько оздоровили,
что даже бывшие прожженные работники прокуратуры
выглядят теперь, как младенцы — молодо и невинно.
И не скажешь, что в мире их не было перспективы.
С Красных камней они наблюдали горбы Эльбруса.
Потом, как умели, мазали им картины,
и выходило маленькое, трехкопеечное искусство.
Перевернутый Киев
Во граде во Киеве семь лысых гор.
На каждой из них — то дворец, то собор.
Но знамя колышется лишь на одной.
Сегодня — на этой, завтра — на той.
Трясется Крещатик от топота ног.
Вещает с майдана языческий бог.
Сегодня — гуляния, завтра — мятеж.
В вечерних газетах одни да и те ж.
А в архитектуре запахло Москвой.
Горилка культуру ведет за собой.
Дивчина судьбину несет в подоле,
пока над землей, под землей, на земле
с гулом торгуют заморским шитьем —
в новую жизнь полагается в нем.
В пустую Софию глядит человек.
А та вспоминает двенадцатый век.
Во граде буянит свобода иметь.
А всем несвободным — мука и смерть.
Во граде во Киеве по-над Днепром
уходят миряне в земное нутро —
там жарко от жара земного ядра,
там притолока от дыханья сыра,
там свечка горит, чтобы видеть, куда
держать направленье слепого труда —
и гувна забот, и раны грехов,
сюда принесенные с самых верхов,
молитвою, прикосновеньем к мощам
до жизни конца еще расчищать —
вот все, что сюда, в пещеры, на дно
с собой унести человеку дано,
чтоб с помощью Бога во мгле рудника,
используя только огонь языка,
однажды коснуться суставов времен;
и Божие Царство во весь окоем
слепой летописец за тонкую нить
достанет из морока — и сохранит.
Все выше и выше град наверху.
Доход распаляет солнце в паху.
Все глубже и глубже уходит другой.
До самого Бога копает любовь.
И лишь обыватель, брошенный тут,
глядит, как каштаны весною цветут.
Он думал вчера, будет думать и впредь,
в рай прогрызаться иль в ад улететь.
30-31 июля 2013
Остров Петербург
Утеха барельефа — быть помногогранней,
облапошить варвара, чтоб он о камень
бился оттого, что камень намекнул о драме —
подмигнул и замер, как бы продинамил.
Входя в этот город, веди себя как хозяин:
что нужно — бери, что понравилось — трогай.
Упаси тебя Бог вопрошать у гранита и слушать, раззявив
рот, — не проси, не рассчитывай на подмогу.
Мосты, дороги, статуи и фасады
кончаются у воды, где спешились и обстали —
и больше никто никогда не покинет Летнего сада.
А ты — из тех, кто забивает сваи.
А ты — из тех, кто в золоченой мариинской ложе
рыдал на первом акте, на втором — кемарил.
А на стоянке остывала твоя лошадь,
от конных статуй отличаясь мало.
Ты на острове, вокруг пучина — и куда поскачешь?
Культура — остров, и всенепременно — остров.
От человека вовсе тут не надо качеств:
куда халтуре душ равняться с этим Росси?
Пора, проснись, колхозник, вспомни Пенелопу.
Назавтра ждет гостиница с окном на буйный Терек.
И будет речь в кафе захлебываться от галопа.
И пара мыслей все же покорит тот берег.
Черный ящик
Кожаные руки с венами на коленях.
Стопы медью попирают советские гобелены.
Туловище придавлено воздушным столбом.
Ночь. В телевизоре происходит футбол.
В замершей комнате брошены голень, бицепс.
Некто весь уже спит, но чему-то внутри не спится.
Красные люди гонят зеленых людей.
Жизнь не была такой долгой, как день.
Внутри затвердевшего тела мотается пленка.
Лица и сцены встреч, рожденье ребенка.
Тишину нарушает явственный плач.
Он уже знает, кто выиграет этот матч.
Только сеть постоянно что-то приносит из бездны.
....................................................
....................................................
....................................................
На борту бегущего человека работает черный ящик.
Он будет прочитан, лишь если сорвет башню.
А еще разрастается сна в ленте памяти кадр.
Но некому различать, да и не различить никак.
8-9 ноября 2013
Бог в детали
Когда, поглядев вокруг,
сначала становится жаль себя,
а потом и не очень жаль,
вся надежда уходит
в неожиданную деталь —
то на улице из-за угла
вдруг выскочит даль,
то длинной нотой в серванте
вдруг прозвучит хрусталь,
и в книжном шкафу
открытка блеснет
духом обещанных приключений,
и в это время
доносится с кухни
запах созревшего в печке печенья,
и в глазах случайного гостя
сверкнет рождественская искра,
и во мраке вещей пронесется улыбка,
в которой возможность завтрашнего утра,
и даже странные вещи, как ополченцы,
становятся вдруг на защиту добра —
и вот утром ты был один, а теперь
целая армия вместе с тобою в ночи у костра —
это фонарь загорелся
под окнами третьего этажа,
но он загорелся, теперь
чему-то иному служа,
и деталь, что была в начале,
теперь выглядит так ничтожно
на фоне горящего мира,
который, как ёлка, сложен
перед тобой, и висит лабуда,
мишура, пугливые звери, железные поезда, —
и пластмассовой на верхушке
прикидывается звезда.
Олимпийская жертва
Вечная мышь через десять лет ада
идет под прожектор затянутой в лайкру.
Она отправляется в космос, как лайка,
корябать на льду внеземную руладу.
Жгучая, будто рана, помада
укажет нам место, где ставить лайки.
Мать — рядовая работница ЖЭКа.
Счастьем блестит ритуальная жертва
во имя великих способностей человека,
гармонии, мира, стремления к свету.
Пока до нее не добрался прожектор,
тиком заходится веко.
Но человечьего в ней теперь мало.
Любимой пластинкой играет тело.
Затерто до дыр поначалу в подвалах,
после оно в спортзалах потело.
Теперь вокруг город, который сделан
затем, чтоб она тут предстала.
Знаешь ли ты, какой сейчас век?
Кто сейчас царь? Как названье страны?
Чем отличаются новый и ветхий завет?
Слышал ли ты, что все люди равны?
Будет алтарь золотым, ты наверх
взойдешь, чтоб ответы забыли и мы.
Мыши, гляди, превращаются в олимпийцев.
Это — они; мы ведь знаем их лица
по мрамору древних оригиналов.
Когда мы копали моря и каналы,
торсы без головы ли, руки, причиндалов
ставили на высоты, гробницы, границы.
Ее в четверном почти что не видно тулупе.
Она борется только с бегущим, как белка,
сердцем внутри совершенной поделки,
закаленной сначала в халупе,
потом в олимпийском огне салюта.
Так высоко не летает нога человека.
В радиусе нескольких километров
в воздухе зависает восторг и дружба.
Договоримся на время оружьем
считать заработанные отметки.
Вихревращений ее окружность
распространяется медиаветром.
Может быть, мир и не требует жертв,
но никому не бывает так рад,
как добровольцам сошествия в ад,
преображенным в огне рубежей.
Выгребешь, мышь, мы подгоним трап
и до облака, выше — подкинем уже.
7-9 февраля 2014