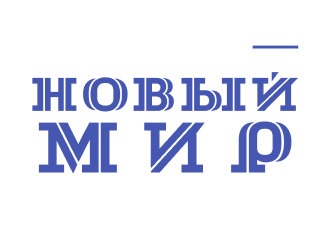Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование. — “Москва”, 2003,
№ 7 — 9.
Леонид Бородин. Без выбора. М., “Молодая гвардия”, 2003, 505 стр.
(“Библиотека мемуаров. Близкое прошлое”)[1].
В наши дни, дни — по определению Леонида Бородина — Смуты, велик соблазн писать мемуары: зафиксировать, верней, застолбить себя во времени, а заодно и свести с ним счеты. И все это — благо свобода слова позволяет, — не откладывая в долгий ящик, тут же и обнародовать. Ведь какое высококлассное произведение ни создай, никогда не станешь читателю столь близок, как раскрывшись ему автобиографически. А какой отечественный литератор не мечтает о такой близости?
Исповедальное повествование Бородина “Без выбора” выгодно отличается от большинства нынешних мемуаров, высосанных порою из пальца, редкой своеобычностью судьбы автора, в позднесоветские сравнительно вегетарианские времена сполна хлебнувшего тюрем и лагерей. Тут другое качество души, отличное от расхожего, другая частота биения сердца, чем та, к которой мы обычно привыкли. Не для самоутверждения и самовыпячивания написана эта книга, но чтобы бескорыстно, чистосердечно (а порой и простосердечно) разобраться в себе самом: в своем миропонимании как в советскую, так и в нынешнюю эпоху, в мотивации своих шагов и поступков, сформировавших жизнь смолоду посейчас.
Ну кто нынче напишет о себе столь просто, так откровенно, без рисовки, но и без унижения паче гордости: что про себя думаю, то и говорю, — кто на это теперь способен?
“Поскольку лично моя жизнь сложилась таким образом, что ни к какому конкретному и нужному делу я вовремя пристроенным не оказался; поскольку прежде всякого выбора жизненного пути или одновременно с тем почему-то озаботился или, проще говоря, зациклился на проблемах гражданского бытия; поскольку, опять же, такое „зацикление” далее уже автоматически повлекло за собой соответствующие поступки и ответственность за них; поскольку все это именно так и было, — то чем же мне за жизнь свою похвастаться да погордиться?”
“Зацикленность на проблемах гражданского бытия” есть в данном случае “классическое” русское правдоискательство — вещь, надо сказать, изматывающая, но и высоким смыслом жизнь наполняющая. А в советские времена — еще и весьма опасная.
...После десятилетки в 1955 году сибиряк Бородин год проучился в елабужской школе МВД, где “скорее чувством, чем сознанием усвоил-понял значение дисциплины как принципа поведения и <...> остался солдатом на всю жизнь, что, конечно, понял тоже значительно позже. Но „солдатская доминанта” — да позволено будет так сказать — „срабатывала” не раз в течение жизни, когда жизнь пыталась „прогнуть мне позвоночник” и поставить на четвереньки...”.
Неординарная спайка правдоискательства и солдатства и определила, по-моему, своеобычность личности Леонида Бородина. Ведь, как правило, правдоискатели — разгильдяи, а солдаты — служаки. У Бородина же все по-другому...
Замечательные страницы бородинских воспоминаний посвящены питерскому ВСХСОНу (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа), “первой после Гражданской войны антикоммунистической организации, ставившей своей конечной целью своевременное (то есть соответствующее ситуации) свержение Коммунистической власти и установление в стране национального по форме и персоналистического по содержанию строя, способного совместить в себе бесспорные демократические достижения эпохи со спецификой евроазиатской державы”.
“Тотальность марксизма, — вспоминает Бородин, — а точнее, социалистической идеи как таковой подталкивала на поиски „равнообъемной” идеи, и когда в середине шестидесятых наткнулись на русскую философию рубежа веков, произошло наше радостное возвращение домой. В Россию. Что бы сегодня ни говорили обо всех этих „бердяевых”, сколь справедливо ни критиковали бы их — для нас „веховцы” послужили маяком на утерянном в тумане философских соблазнов родном берегу, ибо, только прибившись к нему, мы получили поначалу пусть только „информацию” <...> о подлинной земле обетованной — о вере, о христианстве, о Православии и о России-Руси”.
Тут Бородин за всех нас сказал. Впрочем, не за всех. “Это случилось только с теми, кому повезло в самом раннем детстве в той или иной форме получить весомый заряд национального чувства. В этом случае имело место счастливое возвращение”.
Когда всхсоновцев уже пересажали (спасибо, не расстреляли), в парижской “ИМКА-ПРЕСС” вышла брошюра с программными документами ВСХСОНа, в большинстве своем написанными главою организации Игорем Вячеславовичем Огурцовым. Уже в семидесятые годы я штудировал ее с карандашом в руках: программа Союза намного опережала время — и сегодня, по-моему, ни одна партия не создала ничего и отдаленно равного ей по глубине и значению. Во-первых, там был твердо предсказан достаточно скорый крах советской системы, когда все и здесь, и на Западе считали ее “порождением прогресса, обреченным на загоризонтное историческое бытие”. (Из этой имковской брошюрки я вдруг впервые узнал, что доживу до падения коммунизма, узнал — и поверил.) Во-вторых, Огурцов — вослед С. Франку, И. Ильину и другим славным нашим мыслителям, но своим голосом и в свое время — утверждал, что возродиться и отстроиться полноценно Россия способна только при приоритете нравственных, культурных и религиозных начал.
Но программа огурцовская не расплывчата, а прописана и в деталях. “Не должна подлежать персонализации энергетическая, горнодобывающая, военная промышленность, а также железнодорожный, морской и воздушный транспорт общенародного значения. Право на их эксплуатацию и управление должно принадлежать государству. <...> Земля должна принадлежать всему народу в качестве общенациональной собственности, не подлежащей продаже или иным видам отчуждения. Граждане, общины и государство могут пользоваться ею только на правах ограниченного держания. <...> Государству должно принадлежать исключительное право на эксплуатацию недр, лесов и вод, имеющих общенациональное значение”.
...Когда во второй половине восьмидесятых мы встретились с Огурцовым в Мюнхене после его двадцатилетней отсидки, я поинтересовался, читал ли он на момент создания своей программы “Духовные основы общества” С. Франка. Игорь Вячеславович ответил твердо, что не читал. Что ж... “Эту программу, — пишет Бородин, — ему, И. В. Огурцову, продиктовали, с одной стороны, понимание сути и перспективы коммунистического режима в России, с другой — верностью и любовью движимое стремление во что бы то ни стало предотвратить национальную катастрофу, распад и развал России, к чему как по наклонной скатывалась власть, утратившая чувство собственной реальности”. От себя же добавлю, что, на мой взгляд, программа ВСХСОН — редчайший пример политического откровения. В частности, это подтверждается и тем, что Огурцов с той поры ничего больше не создал: все его силы ушли на героическую отсидку. И как ни понуждал я его в Баварии написать книгу воспоминаний, как ни предлагал совершенно бескорыстную помощь в обработке даже не рукописи, а хотя б диктофонной записи — так ничего и не смог от него добиться.
Но насколько импонировала мне всхсоновская программа теоретически, настолько настораживала практически: ведь предполагала она разветвленную подпольную сеть. Тут мне, видимо, повезло больше, чем Леониду Бородину: достоевских “Бесов” прочитал я не в двадцать девять, как он, а в девятнадцать...
В мордовском Дубровлаге в конце шестидесятых сидело немало “звезд первой величины”, среди них и Андрей Синявский. Рассказ о нем — один из самых ярких у Леонида Бородина. И не забыть истории о вечере памяти Николая Гумилева: “Это было двадцатого августа шестьдесят восьмого года, как мы тогда считали, в день расстрела поэта Николая Гумилева <...> которого то ли по незнанию, то ли по недоразумению зеки разных национальностей считали поэтом лагерным и соответственно своим. <...> Месяцем раньше мы провели вечер Тютчева...” Любовь к Гумилеву у Бородина выходит за рамки просто любви к поэзии: очевидно, сам образ расстрелянного большевиками “солдата” играет тут особую роль; тип же сознания Бородина таков, что героические мифы для него — лучшее топливо.
Ну а Синявского я встретил тоже уже в Европе и не могу не согласиться с Бородиным: “Эмиграция его не состоялась настолько, чтобы говорить о ней как о некоем этапе жизни „на возвышение”. Правда, мне мало что известно... Но, слушая иногда его по Би-би-си, где он одно время „подвизался” на теме русского антисемитизма (насчет Би-би-си мне, правда, неизвестно: мы встречались с ним в коридорах парижского бюро „Свободы”, но тема „антисемитизма” и впрямь была одним из его коньков и дубинкой, которою он махал перед воображаемой фигурою Солженицына на своих вечерах и в Европе, и в США. — Ю. К.), отмечал, что даже в этой на Западе столь „перспективной и продвигающей” теме он не оригинален в сравнении с теми же Яновым или Войновичем, которые „сделали себя”, сумев перешагнуть ту грань здравого творческого смысла, за которой только и возможно подлинное бешенство конъюнктуры”. С этим же — добавим от себя — гастролируют они сегодня и в “новой, демократической России”, ибо тут у нас все теперь как на Западе, и спрос на такие штуки велик.
Девять из одиннадцати лет двух сроков заключения Бородин провел не в лагерях, а в тюремных камерах. Первый раз освободился писатель 18 февраля 1973 года из Владимирской тюрьмы — в ссылку. Но девять лет свободы — в нищете и мытарствах — оказались в некотором роде не легче неволи: “Бравым „поручиком Голицыным” вышвырнулся я из стен Владимирского централа. „Капитанишкой в отставке” забирали меня „органы” в 82-м. И хорошо, что „забрали”. Экстремальность ситуации способна возрождать человека, выпрямлять ему позвоночник, возвращать глазам остроту зрения, а жизни смысл, когда-то отчетливо сформулированный, но утративший отчетливость в суете выживания”.
Вторично Бородин был арестован в мае 1982-го. А у меня 19 января того же года провели обыск. И работал Бородин в это время сторожем на Антиохийском подворье, возможно, и пришел туда прямо на мое место. Ведь я-то уже засобирался на Запад — органы так решили: “Второго Гумилева делать из вас не будем”. Я любил Россию, но — в отличие от Бородина — “клятвы верности” не давал (то есть физической клятвы, как это сделал он, вступая во ВСХСОН). И, как замечено в каком-то моем стишке, “сладкая неизбежность встречи с Европою” уже, что называется, овладела моим сознанием.
Бородин же получил чудовищный, несуразный срок — десять и пять ссылки: на нем отыгрались за многих тогдашних тамиздатчиков — Владимова, меня и других, — внаглую перекочевавших из самиздата в тамиздат.
Слава Богу, астрономический второй срок Бородин не отсидел и вместе с другими политическими освободился через пять лет. Но мытарств и физических мучений все же выпало на его долю столько, что, когда вместо подозреваемого рака горла ему диагностировали “только” хроническую ангину, он испытал “смятение, необъяснимое отчаяние и нехорошее, нездоровое возбуждение, всплески беспредметной ярости и, наоборот, — несколькочасовой апатии, когда сидел на шконке не только без движений, но, кажется, даже и без мыслей вовсе. Помню, вскидывался вдруг и произносил вслух: „Опять жить”. И начинал топать по камере туда-сюда... Какое счастье, что был тогда один! Что никто не видел этой позорной ломки. <...> Через полтора года я освободился под аккомпанемент государственного развала”.
...Страницы жизни Бородина в посткоммунистическую эпоху не уступят по драматизму его гулаговской эпопее. Ибо что делать максималисту, моралисту и патриоту — в Смуту? “Цинизм, — пишет Бородин, — безответственная форма душевной свободы. Но именно люди этой породы оказались в итоге более подготовленными к смуте, ибо никакие принципы не связывали им руки. Не связывали до того, и они успешнее прочих сумели пробиться в информированные и властные структуры общества, и уж тем более — после того, когда рухнули всяческие преграды к инициативе самореализации <...>”. Циники составили, так сказать, материальный костяк либерального стана, где были, разумеется, и свои идеалисты, и свои “полезные идиоты”. Но только русскому патриоту, державнику не по пути с теми, кто “либеральные ценности” ставит выше “любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам”.
И как там дальше у Пушкина:
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Самостояние — трудная это вещь, чреватая большим одиночеством. Отсюда и метания, и “заглядывания” Бородина в тот патриотический лагерь, который, увы, повязал себя с советизмом, да не просто с советизмом, а с его, как выяснилось, наиболее соблазнительной для державников, а следовательно, особенно злокачественной сталинистской разновидностью. Страницы полемики со Станиславом Куняевым — тоже очень содержательны, интересны. Но вот ведь парадокс: в том же номере журнала “Москва”, где публиковались мемуары Бородина (журнале, который он редактирует), всего-то через пару десятков страниц, в публицистике, можно прочесть про “И. В. Сталина и его соратников, связавших свою судьбу именно с Россией и ставивших государственные интересы выше интересов мировой революции”. Если в бородинской “Москве” так пишут о кровавом “кремлевском горце”, то чего же ждать от куняевского “Нашего современника”?
В главе “Девяносто третий” метания Бородина достигают, кажется, своей кульминации. Я и сам в те дни маялся возле Белого дома, ни минуты не сочувствуя, конечно, ни красным, ни Руцкому, ни Хасбулатову. Последнего в ту пору почему-то особенно раскручивала прохановская газета. Помню снимок: скинувший пиджак Хасбулатов стоит в чистом поле по колено в росной траве. Без очков и не разберешь: уж не Сергей ли это Есенин?.. Накануне штурма через горы арматуры вечером пробрался к Белому дому. Какой-то юноша, почему-то в плащ-палатке, восторженно читал вслух Ивана Ильина “Наши задачи”; девушки у костерка возились с бутылками — так, понимаю, готовили “коктейль Молотова”? — и пели, тихо, но красиво пели “То не ветер”; старик в хламиде, с бородой, растущей прямо от глаз, проповедовал о Страшном Суде... В общем, какие только типы и персонажи не повстречались там мне уже ближе к полуночи. Но — так запомнилось — у всех зеленоватый, фосфоресцирующий в лицах оттенок, видимо, от специфики освещения...
Утром приехал туда на первом поезде метро — дошел от Смоленки до углового дома напротив мэрии; позже по Кутузовскому вдруг поползли танки. Когда прямой наводкой начали они палить по Белому дому, прикурил у стоящего неподалеку мужчины и только стал отходить на свое прежнее место шагах от него в пяти, как он упал ничком без движения. Не сразу мы поняли, что он убит наповал, даже когда бурое пятно стало проступать сквозь его рубашку. Убит? Кем? Никто не слышал, чтоб просвистела пуля... Помню, после очередного залпа прямо из середины белодомовского массива вылетел большущий письменный стол и стал парить, видимо, на воздушной волне, а кипы бумаг, как чайки, разлетались в разные стороны. Были среди нас, “любопытных”, и те, кто приветствовал каждое попадание снаряда смехом, аплодисментами. Наконец я не выдержал и одернул весельчаков. И вдруг в ответ: “Стыдитесь, Кублановский, вам-то чего...” Я обернулся — красивый еврейский юноша ненавистно блестел на меня глазами. Ненавидит? Меня? За что? Да меня гнобила советская власть, когда ты еще под стол пешком ходил, демократ.
Точная цифра, сколько тогда погибло народу, и посейчас засекречена. Но, думая о погибших, вспоминаю тех — с фосфоресцирующими лицами...
“Коммунистическая власть, — пишет Бородин, — умела воспитывать нужные ей кадры и сохранять их в состоянии искренней влюбленности в бытие, ею сотворенное”. И если “события августа девяносто первого легко укладываются в цепочки причинностей дальнейшей „исторической поступи”, то с октябрем 93-го все много сложнее. Популярное мнение „справа”: „Пресечение последней попытки реставрации коммунистического режима” <...> Кто-то, безусловно, такую перспективу имел в виду. Тот же генерал Макашов, возможно... Но была еще и искренняя боль за судьбу России тысячелетней” — боль, добавлю я от себя, и заставлявшая, очевидно, “русского мальчика” в плащ-палатке читать накануне штурма “Наши задачи”.
В целом же слащаво-маразматическое, догматическое отношение наших патриотов-державников к сталинизму и “советской цивилизации” послужило роковой причиной отшата от них всех нормальных людей на необъятных весях Отечества... Именно потому патриотизм и стал легкой добычей “демократических” мародеров, что на шее у него коммунистический камень.
...Так, сопереживая, одобряя, споря и запинаясь, читал я “автобиографическое повествование” Леонида Бородина, пока не уперся в одну из последних главок — “Михалковы как символы России”. Зацепило название, ведь ясно, что у Бородина “символы России” — другие. Дальше — больше. “Речь пойдет о Михалковых — именно как о символе выживания в исключительно положительном значении этого многосмыслового слова”. Что за притча? За что боролись, Леонид Иваныч? Вы ведь, помнится, выживали иначе: “По первому сроку во Владимирской тюрьме дважды объявлял голодовку, чтоб выбить два-три месяца одиночки. <...> Десять суток я провел, лежа голым на цементном полу, обливая цемент водой ежечасно. Чтоб не задохнуться в прочно закупоренной камере-карцере”.
И наконец: “...будь наш народ на уровне монархического миросозерцания, лично я ничего не имел бы против династии Михалковых”. Что за злая шутка? Надо думать, горький зековский сарказм, который не всякому вольняшке доступен.
Новый автобиографический текст Бородина не остыл, “дымится”, и рука редактора, видимо, его не касалась. Отсюда и смысловая неотчетливость некоторых пассажей. “Из тех, кто уже ушел, с кем-то и знаком не был, и знакомства не жаждал, но оттого еще страшнее их исчезновение из жизни”. Что за спотыкливая конструкция? И почему исчезновение незнакомых “еще страшней”, чем родных и близких? Убей — не пойму.
В пересыльной тюрьме, рассказывает Бородин, заключенный-смертник пророчествует: “„...скоро в русском царстве один за одним подохнут три царя. И четвертый придет меченый”. <...> Два уже сдохли. Как только Андропов сдохнет, готовься на свободу. Придет меченый”. <...> Конечно же, бред смертника я всерьез не принял. И когда уже в зоне узнал, что умер Андропов <...> и когда я впервые увидел сверхнеобычное, на лоб сползающее родимое пятно нового генсека — вот тогда пережил сущее нервное потрясение”... Простите, но Андропов был не третьим “царем” — вторым. И не ему на смену пришел “меченый”, а старому маразматику Черненко.
А цитируя Бродского — при всей нелюбви к нему, — лучше не перевирать общеизвестные строки, а не побрезговать справиться с подлинником: точно ли процитировал?
...Когда Бродский эмигрировал и обосновался в Штатах, Чеслав Милош прислал ему из Калифорнии ободрительное письмо. “Я думаю, — писал один будущий нобелевский лауреат другому, — что Вы очень обеспокоены, так как все мы из нашей части Европы воспитаны на мифах, что жизнь писателя кончена, если он покинет родную страну. Но — это миф, понятный в странах, в которых цивилизация оставалась долго сельской цивилизацией, в которой „почва” играла большую роль”[2]. Итак, по Милошу, “почвенность” есть архаичный пережиток сельскохозяйственной деятельности. И тогда и Солженицын, и Бородин, и я, грешный, и многие и многие отечественные литераторы, включая, статься, аж самих Пушкина, Гоголя, Достоевского, — только духовно-культурные рудименты докапиталистической, чуть ли не средневековой эпохи.
Никак не могу с этим согласиться, все во мне противится этому — секуляризировать, “глобализировать” язык, творчество, отделить его от высоких и драматичных отечественных задач, насмерть спаянных с мировыми...
И мирочувствование Бородина неотделимо от Родины, от исторической отечественной мистерии. На примере жизни его, так доверительно нам открытой, видим, что Родина не пустой звук, что любовь к ней — не фразерство, не идеология, а формообразующая человеческую личность закваска, наполняющая жизнь высоким смыслом и содержанием. Смыслом, религиозно выводящим за грань эмпирического теплохладного бытия.
Юрий Кублановский.
От редакции. Выход в свет автобиографического повествования Леонида Бородина, значительного писателя, а в памятном прошлом — деятеля антикоммунистического сопротивления в СССР, — серьезное литературно-общественное событие, которое несомненно заслуживает удвоенного рецензионного отклика на страницах «Нового мира».
[1] В рецензии Ю. Кублановского все цитаты приводятся по журнальному изданию.
[2] «Старое литературное обозрение», 2001, № 2, стр. 14.