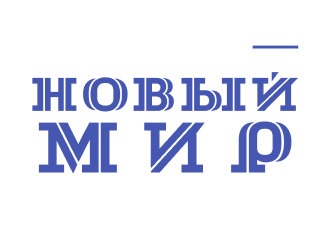Есть на земле такие превращенья
Правлений, климатов, и нравов, и умов.
А. Грибоедов.
Сюрпризы шахматной доски
Бьется, кричит золотой петушок со своей высокой спицы: опасности, о которых еще недавно никто и не помышлял, собираются на наших южных границах. В стороне, где давным-давно никакого серьезного противника у России не было. Происходит что-то странное и для бывших советских людей, скажем откровенно, не очень понятное: к югу примерно от 40-й параллели, в пространстве от Северной Африки до Молуккских островов, бушует религиозная буря с совершенно не ясными на сей день последствиями.
Это “атмосферическое явление” обычно называют “исламским фундаментализмом” — термин довольно расплывчатый, “растекающийся” по множеству стран и регионов, где содержание его весьма существенно меняется. Полагаю, что для его понимания можно и нужно обозначить пространственно-временной центр возникновения этого явления.
Любое серьезное обозрение современного состояния мусульманского мира начинать надо с Иранской революции 1979 года.
Многие из нас помнят, в котором часу утра Камиль Демулен призвал народ идти на штурм Бастилии, но кто что-то знает или помнит, если знал, об уличных боях в Тегеране в феврале 1979 года, о штурме тюрьмы Эвин (“тегеранской Бастилии”)? Между тем сегодня, двадцать с лишком лет спустя (срок, достаточный для объективной оценки), Иранская революция представляется событием, сопоставимым с “великой” Французской даже в глобальном плане, а уж для мусульманского мира имевшим совершенно исключительное значение.
Такое невнимание можно объяснить традиционным “востоконеведением”, которое Россия разделяет с Европой. Восток отдан на откуп специалистам, а широкая публика довольствуется самыми поверхностными знаниями о нем. Нынешняя информационная прозрачность, реальная или мнимая, мало что изменила в этом смысле. Во всяком случае, в отношении мусульманского мира, особенно тех стран, где возобладал фундаментализм. В составе “мировой деревни” эти страны остаются “темным углом” (или, может быть, точнее сказать — становятся им), “выселками”, о которых известно немногим более, чем во времена, когда их посещали первые европейцы.
Конкретно об Иране. В русском сознании “голубая родина Фирдуси” занимала очень скромное место. Персидская классическая поэзия — да, находила и находит ценителей, но ее голос умолк пять столетий назад. Современная же Персия в политическом отношении была (до середины XX века и еще немного позже) прямо ничтожная величина. Не сравнимая, например, с Турцией.
Турция — близкий противник, на какое-то время “обложивший” восточное славянство с юга, от Дуная до Дона, великая держава, участница “европейского концерта”, и всякая виктория, одержанная над ее войсками, имела громкий резонанс. Тем более что, будучи продолжательницею и наследницею Халифата, она как бы представляла перед Европой весь мусульманский мир. И наконец, the last but not the least, это Порта однажды села на Константинополь, русскому сердцу дорогой и близкий, и скинуть ее с этого места стало русской имперской мечтой, едва не осуществившейся в результате победы в войне 1877 — 1878 годов. И казавшейся близкой к осуществлению в ходе Первой мировой войны.
А Персия — страна, расположенная далеко “за горами, за долами”, никаких чувствительных касательств к России не имеющая. И все, что с нею у нас связано, оставалось и остается в тени. Возьмите удивительный Персидский поход Петра Великого, в котором, впрочем, сам царь не участвовал (точнее, вернулся с полдороги). Все последующие продвижения русских в южном направлении были достаточно осторожными и поэтапными, а здесь — сразу на тысячу километров переместилась вперед русская граница! Вся Северная Персия, с южным берегом Каспийского моря, была присоединена к России (правда, только на несколько лет, ибо по смерти Петра персидские завоевания были утрачены). Но кто сейчас помнит, что эти земли были когда-то окрашены “русским” цветом? Если бы подобный прорыв осуществился на турецком направлении!
Две последующие войны, относящиеся уже к первой половине XIX века, также оказались забытыми — отчасти потому, что персы были легко разбиты и воевали-то их не Суворов и Кутузов, а всего лишь Тормасов да Паскевич. Даже славный Двенадцатый год, известный во всех подробностях, персов “не вместил”. Хотя они там не были лишними: когда Наполеон шел на Москву, “навстречу ему” пыталось наступать персидское войско, ведомое французскими “спецами”. Но кто об этом помнит?
Такова история. Но — tempora mutantur: на пороге XXI века мы увидели, сколь быстро растут новые “центры силы” к югу от наших границ: на “великой шахматной доске” Евразии Иран становится весомой и потенциально опасной фигурой. Недаром Соединенные Штаты включили его в число двух-трех стран, для защиты от которых они хотят усовершенствовать свою противоракетную оборону.
Геополитика, однако, имеет дело с уже готовыми величинами, не слишком задумываясь над тем, откуда они берутся и почему вдруг идут на убыль или вовсе исчезают. Уподобляя мир шахматной доске, она становится в тупик и не может объяснить, почему так случается, что за толчеей фигур, как это однажды представилось набоковскому Лужину, неожиданно открывается “обнаженный беспомощный король”, которого и защищать-то не имеет смысла. И наоборот, откуда возникают такие короли, за которых остальные фигуры, от пешки до ферзя, “со всею фурией”, как в старину говорили, устремляются на неприятеля и не сдают их ни в каком случае.
Главный вопрос, касающийся Ирана, состоит сегодня в следующем: почему эта страна претендует на то, чтобы быть лидером мусульманского мира и в некоторых отношениях уже им является?
Как они вернулись на “дорогу в Мекку”
Говорить правду и хорошо стрелять из лука: такова персидская добродетель...
Ф. Ницше.
Распространенное на Западе сравнение Иранской революции с Французской и Русской оправдано, в частности, тем, что ей также предшествовало широкое умственное движение, в котором слышатся определенные отзвуки европейской традиции свободолюбия и тираноборчества. Но вот что резко отличило иранскую интеллигенцию: в революцию она шла, не воюя с религией, а, наоборот, вступив с нею в союз; более того, она положила ислам в основу своего мировоззрения и активно “продвигала” его в народном сознании. Последующее восхождение имама Хомейни к вершинам власти и построение в Иране своеобразной формы теократии невозможно представить без усилий интеллигенции.
Отчасти такому направлению ее действий способствовал сам Реза-шах, взявший курс на паганизацию страны, дополнявшей в его глазах политику вестернизации. В отличие от европейских товарищей по несчастью, он с духовенством постоянно враждовал и пытался, сколько возможно, восстановить языческое прошлое. Дошло до того, что в 1976 году он заменил мусульманский календарь (от Хиджры) новым, ведущим отсчет времени от воцарения Кира Великого, как он официально назывался (из тех Ахеменидов, один из которых однажды приказал высечь море плетьми).
Впрочем, и без таких компрометирующих коннотаций вестернизация страны (резко ускорившаяся в 60 — 70-е годы в связи с ростом доходов от нефти и значительным увеличением компрадорского слоя, перенявшего западные вкусы, а с другой стороны, приобщением широких масс к западному информационному миру, ломкой традиций и т. д.) вступала в труднопримиримое противоречие с унаследованной духовной традицией, в основе которой был и остается ислам. Разрешить это противоречие призваны были иранские интеллектуалы.
Они вернулись “на дорогу в Мекку”, но теперь эта дорога, как выразился писатель Джелал Але Ахмад, пролегала через “запрещенные территории”. Эти интеллектуалы уже были “заражены” Западом и так или иначе перерабатывали его в своей крови. Они начинали в детские годы с “Отверженных” и “Старухи Изергиль” и кончали Сартром, Беккетом и кинематографом Феллини. И приходили к двоякому выводу. С одной стороны, они понимали, что опыт Запада должен быть усвоен всесторонне не только в плане технических достижений, но также, и даже прежде всего, в духовном плане; с другой — полагали, что Запад быстро идет к упадку и тащит за собою в бездну мусульманский мир. Признаком такого упадка является сам человек — “дичающий среди процветания” (тот же Але Ахмад), теряющий самого себя и как бы распадающийся на части.
И они воззвали к духовенству как единственной силе, способной еще спасти мусульманский народ. В то же время они отдавали себе отчет в том, что ислам не оправдает их надежд в упомянутом смысле, если сам не будет реформирован. И постарались — те из них, кто был на это способен, — так или иначе помочь делу.
Реформаторские усилия в исламе обозначают общим термином салафизм, что переводится с арабского как “возвращение к праведным предкам” и примерно соответствует западному термину “фундаментализм”[1]. Уже в прошлом веке в нем выделились два основных направления. Одно из них, восходящее к хиджазскому реформатору Мухаммеду аль-Ваххабу (1703 — 1787), поставило целью полную изоляцию от Запада. Второе направление назовем соревновательным: признав все достижения Запада, оно вознамерилось так преобразовать ислам, чтобы мусульманский Восток смог пойти по пути аналогичного развития; залогом, что такое развитие возможно, послужил известный факт, что в первые века своего существования мусульманский мир значительно опережал в культурном отношении Европу (исключая Византию).
Тут действительно есть некая загадка. Еще в начале II тысячелетия в части наук и некоторых искусств мусульманский Восток шел впереди, в те времена Роджер Бэкон и Раймунд Луллий призывали изучать арабский язык наряду с греческим и латинским. Превосходство мусульман ощущалось и на бытовом уровне. Грубоватые крестоносные рыцари должны были испытывать некоторое смущение, встречаясь с мусульманскими паладинами не на поле боя, но ad verbut audiendum (для выслушивания друг друга): нехристи дивили исходившими от них благоуханиями и тонкими манерами, незнакомыми Европе. Но потом с науками и искусствами “что-то случилось”, и Восток впал в длительную “спячку”, которую так выразительно описал Лермонтов: “Род людской там спит глубоко / Уж девятый век... У жемчужного фонтана / Дремлет Тегеран” и т. д.
Реформаторы прогрессивного толка причину этого усмотрели в искажении изначального “послания”, которое заключает в себе Коран. Так, известный поэт и философ Мухаммед Икбал, до последнего времени почитавшийся как “духовный отец” Пакистана, еще в 20-е годы призывал сорвать с ислама “коросту”, которая на нем образовалась, и привести в движение его “динамическую сердцевину”. Что должно позволить мусульманским странам занять достойное место в мире наряду с Европой.
Иранские реформаторы нового поколения начали там, где остановились их прогрессивные предшественники. Ведущей фигурой здесь явился преподаватель университета в городе Мешхед Али Шариати (1933 — 1977), которого на Западе называют “мусульманским Лютером”. Первый по важности тезис, сформулированный Шариати, был тот же, что у Мухаммеда Икбала и других мыслителей того же направления: свобода плещет крыльями меж строк Корана, и надо просто суметь должным образом их прочесть.
Шариати разделяет мысль Камю: “Я бунтую, следовательно, существую”. Человек имеет “право на бунт” против кого угодно и чего угодно, включая сюда и религиозные установления. Вера, пишет Шариати, должна быть только свободной: “Молитва несознательного индивида, лишенного способности к бунту наподобие животного, не достигнет своей цели”[2]. Это принципиально порывает с практикой, от века принятой в мусульманском мире.
Но далее Шариати расходится с прогрессивной ветвью салафизма: он не считает нужным или, во всяком случае, достаточным просто “догонять Запад”, который, по его убеждению, движется “не туда”. Такая перемена взгляда имела объективные основания: в 60 — 70-х годах обозначилась опасность, что “корабль” западной цивилизации несет на острые скалы, а его команда, вместо того чтобы подтянуться, наоборот, все больше расслабляется и разбредается кто куда.
Беда западных людей, пишет Шариати, что они сокрушили все бастилии, но одну тюрьму, наихудшую, оставили или, вернее, создали ее заново — это тюрьма собственного естества, “самости”. “В „самости” томится свободное „я” человека... Вырвавшись из всех и всяческих тюрем, он оказался беспомощным перед стенами этой тюрьмы... Ибо в данном случае тюрьма и заключенный — одно и то же”[3].
Освободить заключенного из его последней тюрьмы может, согласно Шариати, только духовная сила и ее носитель — духовенство. Для этого оно должно значительно расширить свои функции. Шариати называет клерикализм “худшим видом тирании в истории человечества”, но только в том случае, если духовенство остается “косным”. Совсем другое дело “революционное” духовенство: оно может и должно взять на себя руководство общественной жизнью. Особо важную роль призван сыграть духовный глава правоверных — имам.
Духовное лицо, называемое имамом (не путать с почетным титулом, которым награждают богословов), играет совершенно особую роль у шиитов. Вся Иранская революция имеет акцентированно шиитский характер и должна быть понята в этом своем качестве.
Исходное положение шиизма следующее: пророк Мухаммед нашептал на ухо своему деверю Али (мужу дочери Фатимы, ставшему впоследствии четвертым по счету и последним из “праведных” халифов) нечто такое, чего он не доверил никому другому. Если кораническое Слово является достоянием всех мусульман, то шииты, кроме того, считают себя носителями живого Предания. Суть его — в трансляции определенного духовного типа, первым олицетворением которого явился Али. Его иконические черты: предельная скромность и непритязательность, душевная мягкость, справедливость, внимательность к “малым сим”. Плюс ко всему воинская доблесть и — что следует особо подчеркнуть — готовность жертвовать собою.
Сунниты (до сих пор это, напомню, основная ветвь ислама) в большей степени рационалисты: для них кораническое Слово есть необходимое и достаточное удостоверение Божественного присутствия. У шиитов в большей степени, чем у суннитов, религиозность является актом любви, побуждением “сердца” и, следовательно, в большей степени имеет личностный характер. Надо было быть шиитом, чтобы сказать так, как сказал Хафиз: “Прозренье сердца — свыше нам ниспосланное чудо, / Все ухищрения ума пред ним — пустое дело”.
Шиизм называют иногда “христианской струей в исламе”. Это, конечно, преувеличение, но в некотором смысле шииты оказываются ближе к христианству, чем сунниты.
Из сказанного вытекает и различие в положении религиозных авторитетов. У суннитов, собственно, нет духовенства в привычном христианам смысле: любой член общины, хорошо знающий Коран и умеющий “вести” молитвенное собрание, может быть выбран на роль муллы. У шиитов духовные окормители не столько выбираются, сколько сами “обнаруживаются”, как считается, из числа тех, кто является таковыми “от Бога”. Что касается верховного окормителя, называемого у шиитов великим имамом, то он в их глазах так же непогрешим, как Папа Римский в глазах католиков, тогда как сунниты считают, что никто из земнородных притязать на непогрешимость не смеет. Но и последнее различие в некотором смысле оказывается выигрышным для шиитов: из признания человеческой слабости суннитами выводится необходимость строго следовать традиции, тогда как шииты следуют за имамом (называемым иногда “имамом времени”), ищущим и находящим во временнбой тьме единственно правильный путь.
Вернемся к взглядам Али Шариати. Преимущества имамата для него несомненны; главное же в том, что имам зависит не от чьего-либо выбора, но отпризнания. Это — против суннитов, но также и главным образом против современной (западной по своему происхождению) демократической процедуры. Шариати ее не отвергает, но считает, что она должна иметь более ограниченное применение, чем то, которое она имеет. Демократическая процедура, пишет он, исходит из того, что народ должен быть решающим фактором. Ислам же, на его взгляд, ставит во главу угла иной принцип: “Народ не есть решающий элемент, он есть признающий элемент”. Нельзя назначить кого-то гением, пишет Шариати, и точно так же — имамом; им становится тот, у кого есть соответствующие качества. “Имамат не является демократической процедурой в формальном смысле слова. Имам не обязан поступать так, как того требуют члены общества. И он не должен ставить главной своей целью благосостояние и счастье народных масс. Его первая задача в том, чтобы вести умму (сообщество верующих. — Ю. К.) к совершенству, выбирая для этого наиболее правильный и наиболее эффективный путь, даже в том случае, если он несет обществу великие страдания”[4].
Али Шариати глубже, последовательнее других выразил то, что “носилось в воздухе”, и не только в интеллигентской среде. Уже в 60-х годах иранские интеллигенты пошли “в чайхану” (по-русски “в народ”), распространяя в массах, и не без успеха, “новую правду” об исламе. Таким образом, “место” для великого имама было подготовлено еще до того, как он появился на горизонте.
Не перегнешь — не выпрямишь?
В дни, предшествовавшие революции, над Ираном стояла полная луна, в лике которой, как утверждали многие иранцы, можно было разглядеть черты аятоллы Хомейни.
Возвращение Хомейни в Тегеран в феврале 1979 года сравнивают с возвращением Ленина в Петроград в апреле 1917-го. Сравнение явно неудачное: Ленина в то время мало кто в России знал, и еще меньше было тех, кто его хотел. Напротив, Хомейни (благодаря передачам зарубежного радио всем хорошо известного) действительно ждали, подавляющей массой народа он был признан и призван. И спустя десять лет, когда он умер, проведя страну через тяжелейшие испытания, в отношении к нему мало что изменилось. Сегодня, спустя еще десять с лишком лет, человек, однажды предъявивший “верительные грамоты” “от Бога”, остается почти незыблемым авторитетом в Иране, и не только там.
“Горизонталь” мнения народного добровольно высказалась в пользу восстановления духовной “вертикали”, взявшей на себя функции политической власти. В результате возник принципиально новый общественно-политический строй, не имеющий прецедента ни в Европе, ни в мусульманском мире. Конституция Ирана не отличается сколько-нибудь существенно от западных конституций; и демократические процедуры, как утверждают наблюдатели, соблюдаются здесь более добросовестно, чем во многих странах Третьего мира, считающихся демократическими. Но высший надзор над всеми институтами власти осуществляют духовные лица — рахбар (вождь, глава нации) и состоящий при нем Наблюдательный совет. Во всех делах последнее слово остается за ними. По-персидски это называется велаете факих (власть теологов).
Заметим, что у мусульман нет такого четкого разделения между кесаревым и Божьим, какое существует у христиан. Уже факт отсутствия (в основной ветви ислама — у суннитов) духовенства в полном смысле этого слова до некоторой степени стирает различие между миром и священством. Но только — до некоторой степени. В принципе, различие, конечно, сохраняется (даже у суннитов, тем более у шиитов): царство Аллаха — не от мира сего. Это особенно подчеркивается в ранних, так называемых мекканских, сурах Корана. В мединских сурах, более поздних и более “государственнических”, священство претендует на более жесткий контроль над светской жизнью, но и здесь есть понимание, что возможности его далеко не безграничны. И шиитское духовенство или, во всяком случае, та его часть, что именуется традиционалистской, отдает себе отчет в том, что прямое вмешательство мулл в дела государства несет определенные опасности.
Но и полное отделение государства от религии отнюдь не является, как многие думают, счастливой находкой, долженствующей определить их взаимоотношения раз и навсегда. Вообще нет ничего на этом свете, что установилось бы раз и навсегда. Это относится и к демократии в ее современных формах. Уж сегодня-то вряд ли есть необходимость специально это доказывать: даже на Западе, где она функционирует наиболее успешно, демократия все больше приобретает черты охлократии на современный манер.
И не так она свободна от религии, как хочет это показать. Ведь абсолютизация “воли народа” тоже есть религия, именно народобожие. С. Л. Франк писал, что “воля народа” может быть так же глупа и преступна, как и воля отдельного человека. Да и заполучить ее, так сказать, в чистом виде технически совсем не просто, если вообще возможно. Уравновесить “волю народа” может чье-то духовное водительство, но тут возникает другой вопрос: кто, кого и каким образом поставит водить? Допустим, сам народ каким-то не вызывающим сомнений способом определит кого-то на роли водителей. Но так мы опять упираемся в “волю народа”, которая может быть... (См. выше.) Все это значит не то, что дело обстоит так уж безнадежно, но лишь то, что “последних”, “твердых” ответов на поставленные вопросы нет. Или, вернее, так:
На все как бы есть ответ,
Но без последнего слова.
(З. Гиппиус)
И хорошо, потому что иначе зачем бы тогда была нужна история?
Человечество призвано не единожды, но постоянно проходить между Сциллой и Харибдой — принципом равенства и принципом иерархии (духовной прежде всего). В этом отношении иранский опыт оказывается уникальным. Оговорюсь, что я не призываю учиться у иранцев теократии, которая для христианского мира есть давно пройденный этап.
Долгое время в событиях, сопровождавших Иранскую революцию, трудно было усмотреть что-либо позитивное. Бросались в глаза крайности, неизбежные при всяких революциях; причем в данном случае проявления левого экстремизма, хорошо знакомого Европе, переплетались с проявлениями экстремизма исламского, “средневекового”.
Толпы, врывающиеся в дома и устраивающие самосуд над “приспешниками шаха”; революционная молодежь, демонстрирующая против “буржуазных свиней”; косые взгляды, сопровождающие на улице толстяков; пасдараны (“стражи исламской революции”), охаживающие кнутом женщин, вышедших из дома в коротких юбках; распахнутые двери тюрем: всех покаявшихся заключенных выпустили на свободу, непокаявшихся расстреляли на месте. Впрочем, вскоре тюрьмы наполнились снова, а казни продолжались. По многим признакам рахбар должен был быть отнесен к числу тех изуверов, что “Служат огнем и железом / Великому Богу Любви” (Вольтер).
Пугающие акции на “фронте” культуры: разгромлены кинотеатры и всякого рода увеселительные заведения; “на время” (оказалось — на три года) закрыты все университеты (усилиями главным образом студентов, составивших один из основных отрядов революции); запрещены Моцарт и Бетховен — “за монархические симпатии”. За то же — Фирдоуси или по крайней мере его поэма “Шахнаме” (основа национального эпоса), прославляющая шахов. Запрещены даже шахматы, где на шестидесяти четырех квадратах шах и его прихвостень визирь, фарзи (в Европе ставший ферзем), занимают не подобающее им центральное место.
Но все это оказались “гримасы”, которые Иранская революция постаралась смахнуть со своего лица с течением времени. Сначала получили окорот левые. Исчезли с улиц плакаты явно советского происхождения с рукастыми пролетариями, исполненными праведного гнева, и империалистическими гадами в виде шипящих змей. Уже к 1983 году все леворадикальные партии в стране были запрещены, а социалистические акценты в политике, которую проводили власти, исчезли или были смягчены. Не произошло ни огосударствления экономики (в том объеме, на котором настаивали левые), ни радикального перераспределения земли в деревне. В целом линия традиционного ислама в экономической сфере взяла верх: частная собственность ограждена законом, свободное предпринимательство поощряется и рыночная стихия не сковывается; разве что постулируется необходимость иметь “исламский рынок”, а не какой-либо другой. Ничего смешного в таком словосочетании нет: рыночные отношения во многом зависят от уровня взаимного доверия, которое создается в неэкономической сфере, а моральная атмосфера в стране такова, что не благоприятствует чрезмерному скоплению богатства в одних руках и, наоборот, поощряет или, во всяком случае, оправдывает ограничение потребностей. Это, в общем, тоже соответствует шиитским традициям. В отличие от суннизма, в шиизме больше духовного аристократизма и в то же время заметнее стремление к самоумалению, “безвидности”; соответственно и заметнее сочувствие к человеческой немощи в любых ее проявлениях.
Вынуждены были отступить и поборники культурного изоляционизма — исламские радикалы и солидаризовавшаяся с ними наиболее отсталая часть духовенства. Сам аятолла Хомейни, первые годы испытывавший колебания в данном вопросе, в конце концов занял позицию “просвещенного ислама” и твердо выступил равно против “вигилантов” из числа студенческой молодежи и “безграмотных мулл” (по его собственному определению): те и другие пытались закрыть лица женщинам и прекратить доступ в страну западной культурной продукции, в первую очередь кинематографической. На последний счет высочайший вердикт был таков, что нельзя смотреть откровенно эротические и жестокие сцены, а все остальное смотреть можно и даже полезно, ибо там “много поучительного”; и что там есть чуждого мусульманам, должно не выводиться из поля зрения, но “органически отторгаться”. Что касается женщин, то их положение совершенно несопоставимо с тем, какое они занимали в традиционном мусульманском обществе: женщины служат в армии, заседают в меджлисе (одно время женщина занимала пост вице-президента Ирана), а в последнее время даже примеряются на роли мулл (на Западе аналогичные новации осмелились ввести у себя только самые либеральные ветви протестантизма), правда, окормляющих только верующих своего пола.
Как видно, внутренняя логика Иранской революции отвечает принципу: “Не перегнешь — не выпрямишь”. Очевидно, что самые крайние ее крайности остались позади. Либерализация режима заметно ускорилась на пороге нового века, хотя, как далеко она зайдет (и не зайдет ли она слишком далеко), пока сказать трудно. Ключевым здесь остается вопрос о велаете факих. Было ли вмешательство духовенства в общественно-политическую и культурную жизнь своего рода “скорой помощью”, которая однажды уедет туда, откуда приехала? Или духовенство все-таки сохранит контроль над этими сферами — в полном соответствии с существующей конституцией? Повторяю: опыт Ирана уникален, и, какой бы выбор ни был сделан, в любом случае он будет иметь мировой резонанс.
“Больше чем человечное”
Все, что я мог узнать об Иране, я узнавал из книг и периодической печати. Мне остро не хватало визуальных впечатлений, “крупных планов”. И тут мне повезло: в мае 2000 года в Москве прошел показ восьми иранских фильмов, позволивших наконец заглянуть в этот доселе “темный угол”.
“Самый человечный кинематограф” — такой отзыв довелось мне услышать об иранском кино еще до того, как я с ним познакомился. Но этот отзыв скорее пристал бы к кому-то или чему-то другому, например, к итальянским неореалистам. Кстати говоря, оказавшим заметное влияние на новое иранское кино. Один из фильмов, “Лоточник” М. Махмалбафа (1986), даже снят по мотивам рассказов Альберто Моравиа (разумеется, действие перенесено на иранскую почву).
Но если человек, как говорят, “больше самого себя”, то об иранском кино следует сказать, что оно “больше чем человечное”. При том, что никакой назидательности в религиозном смысле здесь нет. Каждый фильм начинается с обязательного титра “Во имя Бога”, но дальше имя Господа не поминается всуе. Как правило, вообще не поминается. Если, конечно, не считать ритуальных выражений типа “слава Богу”. “Эффект присутствия” вышних сил достигается чисто художественными средствами — движением камеры, хорошо расставленными паузами, музыкальным сопровождением и т. д.
Музыка (по характеру европейская или смешанная европейско-иранская) здесь, пожалуй, особенно важна. Она не столько соответствует тому, что происходит на экране, сколько контрастирует с ним. Чаще всего она нетороплива, величава, трагична, иногда в ней звучат какие-то угрожающие ноты. Она как бы открывает глубину второго или, точнее, первого, высшего, плана бытия, свободного от земных ритмов. Так облака неторопливо плывут над землей людей, какою бы она ни выглядела суетливой, судорожной или, наоборот, оцепенелой. (В итальянских неореалистических фильмах прорывы в вышину редки: на память приходит концовка феллиниевской “Дороги” и еще два-три эпизода в других фильмах.)
Пожалуй, единственный эпизод, прямо относящийся к религии, — в “Голубом платке” Б. Этимада (1994). Люди, собравшиеся к обеду (дом — зажиточный, люди — европеизированные в той мере, в какой это принято сегодня в иранском среднем классе), предваряют его молитвой. Видимо, это день поминовения какого-то их мученика, может быть, самого Хусейна, потому что лица мужчин мрачнеют, а женщины не могут сдержать слез. Проходит несколько минут, все отходят и садятся обедать. Ритуализированные выражения религиозных чувств европейским скептикам кажутся лицемерием, но на самом деле здесь проявляет себя по-своему тонкая физическая организация: в итоге длительного опыта душевная подпочва приноравливается к некоему метроному, упорядочивающему эмоциональную сферу и задающему темп движению жизни в целом.
“Другая жизнь”. Здесь семья есть семья и любовь есть любовь, а не “как бы”. Впервые я понял К. Н. Леонтьева: люди Востока могут быть симпатичнее людей Запада. Особенно там, где мир традиций сохраняет большую власть, — на селе, среди земледельцев, равно как и землевладельцев, или в некотором временном отдалении, как в “Последней сцене” В. Карима-Масихи (1990), действие которого отнесено к 20-м или 30-м годам. Здесь живут люди, не прошедшие через санпропускник западной массовой культуры, сохранившие певучую органичность и природную пластичность, в иных краях давно исчезнувшую.
Обращаешь внимание на положение женщины, поскольку именно оно является предметом особо жесткой критики в адрес “фундаментализма”. Считают, например, анахронизмом ношение чадры. Но чадра (окутывающая фигуру и закрывающая голову, но оставляющая открытым лицо) красива, особенно когда полощется на ветру. Единственное, что несколько угнетает, — это обилие черного цвета. Носят, однако, еще и какие-то накидки типа чадры (может быть, они называются иначе), светлые или цветные, — в таких накидках все женщины прекрасны. Есть в них нечто античное, в Европе позабытое[5]. А бережное отношение к слабому полу вызывает в памяти тоже прошедшее у нас, хотя несравненно более близкое время, когда женщина была “кисейной крепостью” (как где-то выразилась М. Цветаева). Что касается свободы, то, например, в фильме “Сара” Д. Мехрджуи (1992) героиня не менее свободна, чем ибсеновская Нора: она уходит от мужа, когда убеждается, что он не доверяет ей так, как должно мужу доверять жене. Я отнюдь не хочу сказать, что все хорошо в ситуации иранской женщины, наверное, далеко не так. Но на “средневековое рабство” это совсем не похоже.
Конечно, это кино, но кино реалистическое, следовательно, сколько-нибудь значительного отрыва от жизни здесь быть не должно. Украшательство совершенно чуждо иранским кинематографистам, напротив, они склонны показывать убогое, жалкое, смешное, иногда страшное и жестокое, но делают это целомудренно, так, чтобы воздействовать на чувства зрителя, а не на его физиологию, возбудить в нем участие в тех, кто заслуживает участия. К примеру, давно я не встречал такой искренней, такой пронзительной боли за судьбу “маленького человека”, как в “Лоточнике”, представляющем сцены современной городской жизни.
Город везде город, в нем больше несчастных и (или) злых людей, но и совестливость и доброта здесь отнюдь не случайные гости. Это — тема фильма “Быть или не быть” К. Аяри (1998). Девушка, остро нуждающаяся в том, чтобы ей пересадили чье-то здоровое сердце, кажется, дождалась подходящего случая: в больницу привозят молодого человека, смертельно раненного на собственной свадьбе каким-то ревнивцем. Но хотя его положение безнадежно, семья встречает негодованием “чудовищную” просьбу, а брат умирающего даже набрасывается на врача с ножом. Вообще-то тут знаешь заранее, чем дело кончится, и все равно отрадно-интересно следить, как постепенно смягчаются люди и входят в положение совершенно им чужого, но уже задыхающегося от нехватки воздуха человека. Счастливый исход лишь на время отдаляет вдруг возникшие дополнительные помехи: во-первых, выясняется, что девушка — христианка (армянка), то есть “не наша” или “не совсем наша”, во-вторых, рядом возникает “стопроцентный” мусульманин, у которого дочь тоже нуждается в чужом сердце (хотя ее состояние не так тяжело и она еще способна ждать другого донора) и который к тому же может заплатить за пересадку крупную сумму. Но, конечно, родственники погибшего не торгуют его сердцем, они дарят его — той, что больше других в нем нуждается.
Очевидно, больная девушка сделана христианкой, чтобы показать степень душевной щедрости дарителей. Но здесь есть несомненная символика, выходящая за рамки частного случая: мусульманское сердце — красное и, так сказать, пылающее в момент, когда его вынимают из рассеченной груди, — предлагает себя “христианскому” (как не заключить это слово в кавычки!) миру. И ведь не станешь отрицать, что последнему собственной “сердечности” нынче явно не хватает.
Новое кино Ирана убедило меня в том, о чем я и раньше догадывался: исламская революция действительно выпрямила иранское общество. Пора, однако, уточнить: нам показали светлый Иран. Реальность же в ее противоречивой совокупности такова, что вынуждает задаться вопросом: это светлый Иран отбрасывает “ариманову тень” или какой-то другой?
Ab uno disce omnia
Велик Аллах!.. ужасна власть шайтана!
М. Лермонтов.
С самого начала Иранская революция заявила о себе как о мировой; и в этом она тоже сродни французскому и русскому аналогам. Через головы правительств Тегеран обратился к “народам мира” и прежде всего к “обездоленным” (имелись в виду главным образом обездоленные в духовном смысле, ибо в противном случае Запад в качестве адресата пришлось бы исключить) с призывом строить “новую жизнь” на основе заветов ислама. О том, что это была не просто риторика, свидетельствует письмо, которое Хомейни направил Горбачеву в начале 1989 года: в нем утверждалось, что ислам “легко” мог бы заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в Советском Союзе после крушения коммунизма.
Великий аятолла настолько мыслил “в мировом масштабе”, что даже слово “Иран” старался употреблять как можно реже.
Однако чувство реальности не покинуло иранских революционеров, и свою первоочередную задачу они видели в распространении революции на страны уже исламизированного мира. Главными их противниками были (и пока остаются) монархи Аравийского полуострова и те, кого называют “новыми мамлюками”, — кадровые офицеры, установившие в своих странах тиранические режимы под националистическими и социалистическими знаменами. В Тегеране ждали, что под ногами тех и других вот-вот загорится земля, и все делали для того, чтобы этот вожделенный час приблизить.
Вышло иначе. Багдадский Навуходоносор (из “новых мамлюков”), видя, как с падением шаха распадается иранская армия, смекнул, что другого такого шанса история ему уже не даст, и в 1980 году сам напал на Иран. Началась длительная, на восемь лет растянувшаяся, изнурительная для обеих сторон война. Поначалу, как и следовало ждать, иракские войска стали быстро продвигаться вперед. Тогда рахбар призвал мобилизовать все силы для отпора врагу и превратить каждый город и каждое село в “новый Сталинград”. Вышколенной армии противника был противопоставлен “человеческий фактор”. Возрожден был старый шиитский девиз “Кровь против меча”: десятки, сотни тысяч молодых людей записывались в отряды шахидов (мучеников, смертников) и сразу получали символический ключик на шею, открывающий двери в рай. Позднее, уже в период наступления, появились особые “шахиды минных полей”, подрывавшие себя на вражеских минах и таким образом прокладывавшие путь другим частям.
Ход войны удалось переломить: иранцы освободили захваченные у них территории и сами вступили на территорию противника. Но теперь Ирак дружно поддержали и западные державы во главе с США, и СССР, и монархи Аравийского полуострова с их немереными финансовыми возможностями. Запад, видимо, посчитал, что “злая тварь милее твари злейшей”, отождествив последнюю с Ираном. В результате превосходство Ирака в танках, самолетах, пушках и т. д., и прежде значительное, сделалось многократным. Такого обилия техники “человеческий фактор” не смог одолеть. Но и техника не могла одолеть “человеческий фактор”. Сложилась патовая ситуация, которая привела к миру. Обе стороны согласились на status quo ante bellum.
Говорят, что последние месяцы жизни аятолла Хомейни (он умер в 1989 году, вскоре после окончания войны) провел в тяжких раздумьях о том, почему Аллах попустил богопротивному режиму устоять. Между тем Советский Союз вывел свои войска из Афганистана, а вскоре вообще распался, и наследники Хомейни попытались возместить неудачу с Ираном экспансией в восточном и северном направлении. Но в Афганистане возобладала соперничающая ветвь салафизма, а в бывших советских республиках воинствующий исламизм любого толка пока наталкивается на энергичное сопротивление властей.
Тем не менее в Тегеране убеждены, что огни Иранской революции светят и будут светить всем мусульманам без изъятия. Иран официально объявил себя “матерью всех исламских земель” (что несколько противоречит традиции, обеспечивающей особый статус Двух Священных Городов). Во многих случаях Иран в лице своих руководителей выступает от имени всего мусульманского мира. Ab uno disce omnia (устами одного говорят все). К примеру, книга С. Рушди “Сатанинские стихи” вызвала большее или меньшее негодование у всех мусульман, но только аятолла Хомейни вынес автору смертный приговор, как если бы он был уполномочен на это уммой (мировой общиной).
Или взять арабо-израильский конфликт. Казалось бы, это “домашний старый спор” потомков Измаила с потомками Исаака, лишь косвенно задевающий персов как мусульман (другого, впрочем, толка). Между тем Иран так энергично выступает против Израиля, как если бы это был его ближайший противник.
Определенной помехой на путях мирового распространения Иранской революции явился ее шиитский акцент; большинство мусульман (около четырех пятых) до сих пор составляют сунниты. Тем не менее значение ее для всего мусульманского мира огромно. Иран первым бросил вызов Западу, продемонстрировав, что мусульманский народ может идти своим путем, отличным от того, каким до сих пор следовали компрадорские режимы. Энергетика Иранской революции произвела заразительное действие даже на исламистов ваххабитского толка: у тех своя, совершенно отличная стратегия, но факт, что куражу им прибавили именно иранские шииты.
К сожалению, вызов, брошенный Западу, не ограничился религиозно- культурной сферой. Тегеран постоянно держит наготове знамя джихада как священной войны с “неверными”. Фронт борьбы, актуальной или потенциальной, — весь мусульманский мир, все его реальное или проектируемое пограничье. Главный враг — Соединенные Штаты, именуемые “большим шайтаном”. Особая враждебность к американцам отчасти объясняется обстоятельствами, при которых возгорелась Иранская революция: Соединенные Штаты довольно опрометчиво связали себя с шахом (как в иных краях связывают себя, исходя из чисто прагматических соображений, с разными “сукиными сынами”) и всячески его поддерживали. Но, видимо, есть тут и другая, более глубокая причина: своими фильмами, ритмами и т. д. Америка, как никто другой, вольно или невольно подчиняет себе (здесь, как и в других местах) душу народа, и она с тем большим остервенением “сбрасывает” ее с себя, чем больше хочет остаться собою.
Демонизация Соединенных Штатов имела роковое следствие: было взято за негласное правило, что в борьбе с таким противником все средства хороши. Голос шайтана наущающего, принятый за волю Аллаха, подсказал самое одиозное из них — терроризм. Официально Иран открещивался и открещивается от терроризма, и тем не менее есть основания считать, что некоторые террористические организации, включая такие известные, как “Хезболла” и “Хамас”, финансируются если не прямо властями, то кем-то, кто находится на территории Ирана и на чью деятельность власти смотрят сквозь пальцы.
С точки зрения ислама терроризм никоим образом не может быть оправдан; попытка “подвести” под него слова Пророка, что несправедливость позволительно устранять “прямым действием”, — слишком явная натяжка. Традиционный фикх (мусульманское право) твердо стоит на том, что врага следует убивать в честном бою и ни в каком случае нельзя убивать женщин (если только они сами не прибегают к оружию), детей и стариков. Были, правда, когда-то (в XI — XIII веках) в Персии те, кого в Европе называют ассасинами[6] и кто действительно прибегал к методам террора. Но, во-первых, ассасины были своеобразным орденом или сектой (точнее, сектой внутри другой секты — исмаилитов), практиковавшей оккультизм и уже поэтому существенно уклонившейся от ортодоксального ислама[7], а во-вторых, мирных, ни в чем не повинных жителей ассасины, насколько я знаю, никогда не убивали.
Что в перспективе? Иран наращивает военную мощь, создавая арсенал вооружений новейшего типа — ядерного, ракетного (включая межконтинентальные ракеты), химического, биологического. Да и по обычным вооружениям он теперь первенствует на Среднем Востоке. А так как установка на мировую исламскую революцию сохраняется, есть вероятность того, что этот кулак когда-нибудь будет приведен в действие. Тем более, что сам кулак, коль скоро его однажды собрали, “хочет”, чтобы его привели в действие. Английский историк Ф. Холлидей считает возможным провести следующую аналогию: СССР, однажды заряженному идеей мировой революции, пришлось временить добрую четверть века, прежде чем ему удалось реализовать, хотя бы отчасти, изначальное стремление к экспансии; нечто подобное может произойти и с Ираном.
Наиболее вероятным направлением иранской экспансии считают западное и юго-западное. С багдадским Навуходоносором, возможно, уже не придется ратоборствовать; в один прекрасный и скорее всего недалекий день каким-нибудь “камушком, оторвавшимся от Божьей горы”, он будет сокрушен, и тогда шиитский (на две трети) Ирак может быть просто поглощен Ираном. Или станет чем-то вроде его “дочерней республики” (если использовать терминологию времен Французской революции). И тогда Иран может нанести удар по монархиям Аравийского полуострова, о чем он давно мечтает. Или спровоцировать в этих странах восстания против существующих режимов. Вполне вероятно и вмешательство Ирана в дела территориально далеких от него мусульманских стран. Как это уже имело место, например, в Судане, где смену власти фактически произвели посланные сюда с этой целью иранские пасдараны. Чему, кстати, не помешало то обстоятельство, что суданские мусульмане — сунниты.
Заметим, что границы распространения шиизма отнюдь не являются раз и навсегда установившимися. В самом Иране шиизм стал государственной религией только в XVI веке и только в XVIII победил окончательно. И нельзя исключать того, что под влиянием Иранской революции шиитов станет значительно больше, чем их было раньше.
Что касается отношения к Западу, включая Соединенные Штаты, то оно в последние годы (и особенно в последний год истекшего века) заметно смягчилось под давлением либеральной части хомейнистов. К тому же трезвые головы в Иране отдают себе отчет в том, что по крайней мере в обозримом будущем военное противостояние здесь ничего не даст. Как выразился один из иранских руководителей, “мы не должны тешить себя надеждой, что однажды сумеем бросить вызов нашим основным соперникам в части технологии вооружений. Наша сила не в этом, а в пробуждающемся по всему миру исламском самосознании...”[8]. Заметим, что исламское самосознание тоже бывает разное. Слава Богу, то, что пробудилось в Иране, не лишает его способности к диалогу, а лучше сказать, к некоторому взаимопониманию с христианским (без кавычек) миром, совсем напротив. Определенным залогом в этом смысле могут служить богатейшие (хоть и не обновлявшиеся длительное время) культурные традиции, ставящие Иран в исключительное положение среди других мусульманских стран.
Fundamenta
Духовная сила, позволившая исламизированной Персии сохранить ее древнее культурное своеобразие, более того, давшая ей новый импульс и в то же время окрасившая ислам определенным образом, — суфийство, или суфизм.
Возникновение суфизма, вероятно, было предопределено уже в те годы, когда под знак рогатой луны ислама подпали страны Ближнего и Среднего Востока, в которых успело пустить корни христианство и еще были живы традиции эллинской философии и культуры. Воздух в этих краях был слишком насыщен ароматами предшествующих столетий, чтобы ислам мог здесь оставаться таким, каким его принесли с Аравийского полуострова, — суховато-законническим, относительно бедным содержанием. Отталкиваясь от тех элементов мистики, тех крупиц “сердечности”, какие есть в Коране, суфии сделали “свой” ислам более эмоциональным и в большей мере опирающимся на образное мышление.
Исходный жизненный и мировоззренческий принцип суфиев — отрешение от благ мира сего; парадоксальным образом оно сочетается с влечением к миру сему, только очищенным и переведенным в план искусства. Такого, например, как пение (с точки зрения ортодоксального ислама это занятие хоть и не греховное, но несколько сомнительное). Позднее к пению добавился танец, с течением времени сложившийся в известный тип радения, именуемый зикром.
Можно, наверное, сказать, что религиозность суфиев пропитана культурой, и, наоборот, культура в ареале распространения суфизма (а это по меньшей мере весь массив мусульманских стран от Босфора до Инда, исключая Аравийский полуостров) пропитана суфийской религиозностью.
Безусловно, высшее достижение культуры мусульманского мира — персидская классическая поэзия XI — XV веков; точнее, поэзия на языке фарси, создававшаяся на территории не только нынешнего Ирана, но также Мавераннахра (среднеазиатское Двуречье), Афганистана и нынешнего Азербайджана. Вся она — суфийская и поэтому представляет собою великолепный материал для ознакомления с суфийской религиозностью. Что в ней особенно замечательного, это мировоззренческая широта, резко выделяющая ее на фоне ортодоксального ислама. Здесь есть богатство чувствований, есть свобода и сила мысли, вполне сопоставимые с теми, что мы находим в духовной истории Европы.
Таков верхний “этаж” суфизма. У него есть низлежащие “этажи”, сближающие его с уровнем понимания “простых людей”. Это сближение стало возможным в силу некоторой снисходительности суфиев к традициям народной культуры (иногда чрезмерной, доходящей, например, до абсорбции некоторых элементов шаманства). Отметим, что данное обстоятельство облегчило институционализацию суфизма на периферии мусульманского мира, в частности на Северном Кавказе и на большей (особенно северной) части Центральной Азии. Здесь произошло “наложение” ислама на местные традиции, в результате чего получил распространение, например, культ святых “местного значения”, ортодоксальным исламом не приемлемый. Разумеется, между “народным суфизмом”, как его называют, и верхним “этажом” суфийского богословия и высокой поэзии существует дистанция немалого размера, но есть и объединяющие их родовые черты.
Спустя год после смерти Хомейни вышел в свет сборник его стихов (газелей) под названием “Вино любви”. В нем есть такие строки: “Моя жизнь близится к концу, / А возлюбленная так и не появилась... / Руки готовы приять кубок смерти, / А кубок вина я так и не увидел”. Это вполне традиционные для суфийской поэзии мотивы. “Возлюбленная” — земная красавица, но взгляд поэта, обращенный к ней, проходит “сквозь нее”, устремляясь к “небесной Зухре”. И вино — не то, что подают в мейхане, то бишь трактире (у пьянейшего из суфиев, Хайяма, читаем: “Вином любви мы пьяны, не лоз вином, поверь!”).
Никого в Иране особенно не удивило, что суровый аятолла писал стихи, притом стихи неплохие, — нелицеприятные критики обратили внимание на их чисто версификаторские достоинства. Что ж, как сказал русский поэт,
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза, —
то есть не из того Шираза, который воспел Хафиз, не из “колена Хафизова”. А современные персы дорожат своей поэтической “генеалогией”: страна хорошо знает своих великих поэтов, но и более того, суфийские традиции пронизывают живую, творящуюся культуру (что видно и на примере Хомейни); другой вопрос, как они сегодня преломляются.
Некоторые составляющие суфизма вызывают сейчас неприятие и осуждение: это, как легко догадаться, созерцательность и “односторонний” эстетизм. Еще Мухаммед Икбал, сам поэт, упрекал суфиев в том, что они “уводили” мусульман от решения практических задач[9]. Революционеры поставили целью перестроить на старо-новых основах иранское общество и весь мир; в такую-то годину “ласки милой воспевать” многим представляется несвоевременным, даже если милая опознана как вполне неземная. Наиболее аскетичные из числа революционеров только одной возлюбленной отдают свое сердце — той, что служит иносказанием революции. И все же большинство тех, кто участвует в дискуссиях о суфизме, которые постоянно ведутся в Иране, готовы воспринимать образ возлюбленной только в традиционном ключе — как олицетворение потусторонней истины. Общее сочувствие и поддержку находят порывы к свободе, которые можно найти в суфийской поэзии. Как и ее внимание к “простому человеку”. Высоко оценивается само образное мышление как предпочтительное, во многих аспектах, в сравнении с мышлением логическим. Остается в чести эстетика как таковая. Даже Отдел пропаганды исламской революции требует от своих пропагандистов “красоты изложения мыслей”.
Таким образом, в значительной своей части суфийские традиции сохраняют силу, и это позволяет надеяться не только на взаимную благосклонность христиан и мусульман, но и на возможность диалога.
Напротив, с ваххабизмом какое-либо сближение практически невозможно. В рамках настоящей статьи я не имею возможности говорить о ваххабизме подробнее, замечу лишь, что он возник как реакция на суфизм. Органичный на Аравийском полуострове, он в последние годы бурно распространяется в других местах (как ни парадоксально, но энергетика Иранской революции подстегнула также и экспансию ваххабизма); в частности, он одержал победу в Афганистане. Ваххабизм прост и самодостаточен; и он хотел бы воздвигнуть китайскую стену, чтобы оградить себя от внешнего мира. Это в лучшем случае, в худшем же он еще и агрессивен и стремится к неограниченному расширению. Поэтому искать взаимопонимания с ваххабитами чрезвычайно трудно, их можно лишь терпеть — пока и поскольку они сами готовы терпеть мыслящих и чувствующих инако.
Придется кое-что вспомнить
Как можно быть персом?
Ш. Монтескьё.
Этот знаменитый вопрос, а точнее, восклицание, вырвавшееся у одного из персонажей романа “Персидские письма”, и в наши дни может служить эмоциональным выражением того, мягко говоря, недоумения, какое вызвал на Западе ход Иранской революции.
В январе 1980 года журнал “Тайм”, объявивший аятоллу Хомейни человеком года, писал: “Редко случается, чтобы такой неправдоподобный лидер сумел потрясти мир... Революция, которую он привел к победе, грозит нарушить мировой баланс власти более, чем какое-либо другое событие с того времени, когда Гитлер захватил Европу”[10]. Это сказано по горячим следам и под свежим впечатлением. Обратим внимание на сравнение с Гитлером: в те дни оно не выглядело неожиданным. Режим, который Хомейни установил в Иране, многие называли “исламским фашизмом”.
Десять лет спустя американский исследователь и публицист Робин Райт дает более объективную оценку Иранской революции. “Только одна революция в этом столетии, — пишет она, — до такой степени поразила и напугала внешний мир — Русский переворот”[11]. Предшественники иранских революционеров, с ее точки зрения, — большевики и еще прежде них якобинцы: те и другие низвергли пришедшую в упадок монархию (не совсем точно, ну да ладно); вот только “исламская идиома” делает иранцев ни на кого не похожими и ставит в тупик равно Запад и (коммунистический тогда) Восток.
Мерить Иранскую революцию европейскими мерками можно и нужно, но за более близкими аналогиями следует обратиться в глубь истории. Кстати, год Иранской революции, 1979-й, по мусульманскому календарю — 1400-й. То есть мусульманский мир только-только вступал в XV век, если считать от Хиджры. Вот как раз в европейском XV, а еще больше в XVI и XVII веках, иначе говоря — в эпоху Реформации, мы и найдем материал для сравнения. Действительно, исламские салафитские движения разных толков и направлений имеют много общего с европейскими реформационными движениями.
Приведись современным европейцам увидеть воочию кальвиновских “стражей веры” или кромвелевских “железнобоких”, распевающих псалмы, они поразились бы тому, сколь их предки далеки от них психологически. Удивительна, на современный вкус, сила веры, одушевлявшая ранних пуритан и позволявшая мужчинам с улыбкой переносить любые пытки и молодым девушкам всходить на костер, как на брачное ложе. А ведь пуританство, как это хорошо известно, явилось коконом, из которого вышла современная демократия. Два основных принципа были им поставлены во главу угла. Один из них — духовное водительство. Кальвин прямо говорил, что “надо делать людям добро вопреки их воле”; во исполнение этого принципа в пуританской Англии и вслед за нею в Америке было введено “правление святых” (“при непосредственном участии Христа”). Вторым принципом, однако, было народовластие: водителей должен выбирать себе народ (сам Кальвин оказался низвергнут, когда того захотел народ). Теократия, таким образом, была слита с демократией, и понадобилось длительное время, чтобы вторая отделилась от первой и даже отреклась от своего с нею родства. Подобным же образом проблематика прав человека утрачивает связь с одним из основных, если не основным своим источником, а именно проведенным Кальвином и еще прежде него Лютером уравнением верующих в правах.
Можно, следовательно, думать, что по крайней мере некоторые салафитские движения просто повторяют путь, пройденный европейской Реформацией, иногда даже сознательно: Али Шариати, например, считал Лютера и Кальвина “великими реформаторами”, кое в чем созвучными современным исламским. Иранских салафитов объединяет с кальвинистами общая тенденция религиозной мысли, а именно стремление елико возможно “задействовать” Бога в делах мира сего ценой частичного разрыва более тонких и музыкальных нитей, что связывают Бога с человеком (хотя у кальвинистов этот разрыв, похоже, был более значительным).
На Западе пытаются объяснить Иранскую революцию преимущественно “снизу” такими обстоятельствами, как миграция крестьян в города, влекущая за собою трудности приспособления к новым условиям, недовольство интеллигенции своим уделом и т. д. Подобные концепции, выводящие за пределы рассмотрения религию как “самодвижущийся” фактор, свидетельствуют о забвении собственной истории четырех-пятивековой давности.
Но считать, что исламское реформаторство всего лишь следует путем, аналогичным тому, какой прошло христианское реформаторство, с известным временнбым лагом, было бы слишком утешительно для Запада. Во-первых, ислам не христианство. Во-вторых, диахрония не может не испытывать давления синхронии, иначе говоря, имманентный для мусульманского Востока путь развития так или иначе помечен мощным воздействием мирового времени, “хозяином” которого является Запад, и в свою очередь оказывает обратное воздействие на него. Как уже было сказано, Иранская революция в огромной степени представляет собою реакцию на западный опыт, в основе которой — достаточно обоснованное опасение, что “этот безумный, безумный мир” утратил всякие ориентиры и движется к своему концу.
Казалось бы, на Западе нет недостатка в собственных кассандрах, предрекающих если не неизбежность, то, во всяком случае, возможность близкой катастрофы. Но почему-то аналогичные предупреждения, исходящие из мусульманского лагеря, вызывают болезненную реакцию. И находить у мусульман какие-то элементы позитивной альтернативы, насколько я знаю, никто не хочет. Приходится констатировать, что в прежние времена западные люди были способны к большей объективности в отношении мусульманского мира, чем сейчас (я не говорю о тех европейских интеллектуалах, которые переходят в ислам, — они тоже демонстрируют нехватку объективности, только иначе). И это несмотря на тяжесть взаимных обид, разделявших христиан с мусульманами.
Собственно, взаимные обиды объясняются главным образом военными действиями, с незначительными перерывами продолжавшимися целую тысячу лет и резко усиливавшими взаимную вражду[12]. Столь позднее произведение литературы, как “Освобожденный Иерусалим” Т. Тассо (1574), весь пронизан пафосом борьбы с неверными (удивительно ли? — ведь только-только отгремела битва при Лепанто). Лишь ослабление военного противостояния и решительное изменение соотношения сил между двумя лагерями сделало возможным более дифференцированный со стороны европейцев взгляд на мусульман. Другая тому причина — секуляризация европейского мышления. Я отнюдь не хочу сказать, что секулярно мыслящий человек способен лучше понять мусульманина, убежден, что, как раз наоборот, религиозно мыслящему христианину это удается гораздо лучше. Но в определенный исторический период преодоление давно сложившихся предубеждений лучше удалось людям с научно-рациональным складом ума. Таков был Век Просвещения.
Вот только два примера. Один из них — “Персидские письма” (1721). Монтескьё не был в Персии, но знакомство с сочинениями современных ему путешественников навело его на мысль сопоставить нравы двух стран, Франции и Персии. Увидеть Францию, вообще Европу глазами персов — прием, позднее названный остранением. Автор при этом отнюдь не ставит их в положение неких условных мудрецов (вроде Зарастро из моцартовской “Волшебной флейты”), напротив, они сами готовы восхититься мудростью Европы, сумевшей “распутать хаос” и произвести на свет немало “чудес и удивительных вещей”. Вместе с тем множество французов оставляют у них самое дурное впечатление: они совсем не похожи на тех христиан, с которыми мусульмане столкнулись в эпоху крестовых походов, “они скорее похожи на тех несчастных, которые жили во тьме язычества до того дня, пока Божественный свет не озарил лик нашего великого Пророка”. Положим, в этих словах звучит авторская ирония, которую позволительно счесть обоюдоострой, однако в других случаях он, вне всякого сомнения, разделяет суждения своих героев. Например, там, где говорится о “здешних тлетворных местах, где люди не ведают ни стыда, ни добродетели”. И там, где парижане и парижанки производят впечатление “бесстыжих”. И там, где звучит жалоба на “себялюбивых дураков”, которые “везде и всюду” и которые “расписывают себя перед вами и все разговоры переводят на собственную особу”. Один из отцов европейской демократии, Монтескьё (выходец из провинциальной аристократии) считал высокий уровень личности необходимым условием свободы и демократического порядка; идеалом в этом смысле были для него герои республиканского Рима. А образцом недолжного служили парижские либертены, преимущественно из высших классов, сопоставление с которыми жителей мусульманского Востока оказывалось выигрышным для последних.
Другой пример — “Путешествие в Сирию и Египет” Вольнея (1784). Писавший под этим псевдонимом Константен де Шасбёф, один из ведущих “идеологов” конца XVIII — начала XIX века, тоже нашел в странах, которые посетил, много отрадного на уровне простого человеческого общения. “Среди культурных народов, — пишет он, — мало найдется таких, которые были бы в столь высокой степени нравственны, как эти” (сирийцы и египтяне). И далее: “Находясь среди мусульман, я не раз задумывался над тем, что успехи цивилизации могут лишиться всякого смысла, если падение нравов достигнет той же стадии, какой оно достигло в Риме эпохи цезарей”[13]. Конечно, для просветителей, каковы Монтескьё и Вольней, мусульманский Восток являет собою скорее отталкивающую картину, ибо там деспотизм и клерикализм еще грознее, чем в Европе, но коль скоро речь заходит о человеческой “составляющей”, их суждения (Вольнеем вынесенные из непосредственного общения, а Монтескьё из знакомства с соответствующей литературой) становятся не только благосклонными, но и не лишенными некоторой зависти.
Однако в дальнейшем Европа утвердилась во мнении, что ей нечему учиться у неевропейских народов, которым раз и навсегда отвела роль своих благодарных учеников; по крайней мере у мусульманских народов никто ничему учиться не собирается.
Двадцать лет спустя после Иранской революции академический журнал “Мидл ист джорнал” так оценивает нынешнее положение страны: “Исламская республика Иран, похоже, становится все более интересной лабораторией, позволяющей наблюдать применение ислама в политической практике. Иран может выработать модель для других, а может потерпеть неудачу, но в любом случае его успехи и ошибки послужат уроками для всех”[14]. Имеется в виду — для всех мусульман. Что иранский опыт в политическом или неполитическом плане заключает в себе нечто поучительное для Запада — об этом ни слова ни в этой статье, ни в каких-то других выступлениях; во всяком случае, в тех, которые мне известны.
Хотя, казалось бы, легко заметить асимметрию: слабое место Запада есть как раз сильное место Ирана (если ограничиться этой страной), именно человеческая “составляющая”. О том, как обстоит дело с человеком на Западе, сами западные эксперты делают убийственные заключения: “человек умер”, “распался на части” и т. д. Понятно, речь идет всего лишь о тенденциях, но тенденциях все более ощутимых.
В отличие от западного человека, каков он есть сегодня, мусульманин вопрошает себя не “Чего я хочу?”, но — “Чего хочет Бог?”. В этом его сила. И эта сила позволяет мусульманам бросить вызов западной цивилизации “по всему фронту”. Я думаю, что заявки на строительство “исламской науки”, “исламской экономики” и т. д. надо принимать всерьез — если только не абсолютизировать, в шпенглеровском духе, религиозно-культурное их содержание в ущерб универсальному. Конечно, скорых результатов тут ждать не приходится: слишком велико отставание от Запада. И все же смеяться над догоняющими было бы опрометчиво, ибо на главном “участке фронта”, проходящем через самого человека, мусульманский мир имеет на сегодня определенные и, возможно, решающие преимущества.
Правильно оценить расстановку сил в мусульманском мире нередко мешает текущая политическая конъюнктура. Америка, например, до недавних пор видела в Иране своего злейшего врага потому, что у нее с ним “личные счеты”. И наоборот, терпимо относилась к ваххабизму, ибо дружила и дружит на государственном уровне с Саудовской Аравией (прощая ей даже вмешательство религиозной полиции в личную жизнь аккредитованных в этой стране американских дипломатов) и пыталась дружить с талибами, перенося на них те близкие отношения, какие сложились у нее с афганскими моджахедами в период их войны с СССР. И лишь в последнее время приходит осознание того, что как раз в иранском обществе основа для некоторого взаимопонимания с Западом существует, а у ваххабитов нащупать ее чрезвычайно трудно, если вообще возможно.
В 20-е годы, когда европейцы “вдруг” заметили в небе над собою низкое солнце, американский историк Ч. Берд писал: “Если когда-нибудь Восток сокрушит Запад на поле сражения, то это произойдет из-за того, что Восток полностью овладеет западной технологией”[15]. Сорок лет спустя П. А. Сорокин посчитал, что это пророчество в значительной мере уже сбылось, только сражения как таковые отошли в область прошлого. Действительно, Дальний Восток, приблизившийся к Западу по уровню технологического развития, идет по пути подражательных действий, хотя что у него там на душе, покажет время. Не то мусульманский Восток. Отнюдь не в технологии полагая свою силу (хотя и ею не пренебрегая), он намерен сокрушить Запад на тех “полях сражений”, которые сам выбирает, не исключая таковое в более или менее традиционном смысле, в кавычках не нуждающееся.
Думаю (и надеюсь), что Запад не будет “сокрушен”, но вряд ли ему удастся устоять просто в силу сложившихся автоматизмов. Трусливая любовь к радостям настоящего, о которой писал Токвиль, может на сей раз основательно его подвести. Наследникам in jure sanguinis (по праву крови) героев Лудовико Ариосто и Вальтера Скотта придется кое-то вспомнить, чтобы достойным образом встретить “неприятеля” (в кавычках или без).
История с географией обязывают
И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает.
Лк. 12: 55.
Ни одна христианская страна мира не имеет такого исторического опыта сожительства христиан с мусульманами, который имеет Россия. Из всех европейских стран только в России (если не считать мелкие балканские страны) есть автохтонное мусульманское население, притом весьма значительное численно. И только Россию подпирает с юга огромный мусульманский массив. И в этом опыте позитивного было больше, чем негативного. Отношение к мусульманам, проживающим в составе Российской империи, по крайней мере со второй половины XVIII века, было снисходительным по преимуществу. В пределах империи даже имела место некоторая экспансия ислама: так, обращение в ислам башкир и казахов было завершено уже при русской власти.
С конца XIX века среди российских татар получил распространение джадидизм — разновидность салафитского движения, той его ветви, которую я выше назвал соревновательной. Труды российских джадидов, в первую очередь Исмаила бея Гаспринского, оказали влияние на современных исламских реформаторов в Иране и других странах.
Победа большевиков первоначально была принята с энтузиазмом многими российскими мусульманами, поверившими принятой в ноябре 1917 года “Декларации прав народов России”, формально предоставившей каждому народу бывшей империи право распоряжаться собою, вплоть до отделения от России. Но кызыласкеры (красноармейцы) быстро окоротили энтузиастов отделения, а через считанные годы на мусульман СССР обрушились злейшие за всю историю гонения (впрочем, таковые же обрушились на православных): власть вознамерилась затоптать в пыль обе великие религии, так, чтобы ничего от них не осталось.
Совсем затоптать не удалось, корни остались; причем у мусульман они, похоже, сохранились лучше, чем у православных. Сейчас они дают свежие побеги, и следить за их ростом не только интересно, но и крайне важно для будущего России.
В разных регионах — по-разному важно. Поволжские и приуральские мусульмане, живущие не только, и даже не столько, в своих национальных республиках, сколько вне их, должны быть предметом первостепенного внимания в указанном смысле. Ибо они — обречены жить с русскими “вечно”.
Северокавказские автономии и в первую очередь Чечня — этот окраинный регион стратегически важен для России, и за него еще стоит побороться, даже если допустить, что в будущем эти автономии могут стать независимыми (каковое допущение не лишает смысла нынешние военные усилия: можно допустить, что автономии станут независимыми от России, но не против нее, как это имело место в Чечне).
Центральная Азия и Азербайджан, хотя и заграница, заслуживают пристального внимания как по причине традиционных связей с ними, так и потому, что в силу географического положения они становятся проводниками влияния, каковое исторические центры ислама оказывают на наших “внутренних” мусульман.
Все “наше” (и бывшее “наше”) мусульманство — суннитское (за исключением Азербайджана, где преобладают шииты) — отмечено печатью суфизма. На Северном Кавказе и на большей части Центральной Азии это “народный суфизм”, на юге Центральной Азии и в Татарии — более развитые формы его (так, во всяком случае, было до советских гонений). Ваххабизм, близко соприкасающийся с варварством и всюду объявляющий войну суфизму, здесь так же необычен, как и во многих других местах, но оснований для его появления и роста здесь даже больше, чем, например, в Афганистане. Ибо нигде не было такого отрыва от традиций, такого пренебрежения ими, как в советской стране.
Лучшая защита от ваххабизма в рамках самого ислама — движение в его глубину. В этом смысле подает надежды Татария, всегда бывшая центром интеллектуального ислама в России. Здесь есть интеллигенция одновременно религиозная и европейски мыслящая, восстанавливающая и продолжающая оборванную линию джадидизма. Жизнь для нее давно “переведена на русский”, но основой мировоззрения остается — или скорее заново становится — ислам.
Что касается бывших “наших” мусульманских республик, то они чем дальше, тем больше будут сближаться с “внешним” мусульманским миром и соответственно отдаляться от России; чтобы предсказать это, не нужно обладать выдающимися провидческими способностями. Центральную Азию, особенно в южной ее части, уже сейчас захлестывает волна исламизма, вызывая у тамошних “диадохов”, наследников советской империи, беспокойство, переходящее в панику. Ветры, дующие с юга, свеивают культурные накопления советского времени, а новые веяния бывшая номенклатура, пребывающая у власти, воспринимает как враждебные и в меру своих возможностей пытается с ними бороться. С заведомо нулевыми шансами на успех.
В Азербайджане несколько иная ситуация, видимо, по причине его более длительного пребывания в составе Российской империи. В этой стране, где еще в прошлом веке М. Ф. Ахундов, гонитель ислама и русофил, призывал азербайджанцев к слиянию с русским народом, секуляризация глубже и русификация основательнее. Но и здесь существующий режим подернут дымкой обреченности, и здесь смещение в южную сторону — дело времени.
Вопрос в том, в каком именно направлении (в духовном смысле) пойдет исламизация бывших “наших” южных регионов. Исторически вся Центральная Азия и мусульманское Закавказье (отчасти и Дагестан) — зона безраздельного влияния Персии; значительная часть этих территорий даже административно входила в ее состав (Азербайджан, к примеру, до начала XIX века). Бухара, Самарканд, Гянджа долгое время были важнейшими центрами персидской культуры. Когда шиизм стал государственной религией в Персии, это несколько ослабило ее влияние в Центральной Азии, и все равно оно оставалось очень значительным вплоть до прихода русских, а в культурном смысле даже и позже. Сейчас государства, о которых идет речь, держат знамя национализма (с исламской окраской) и ориентируются преимущественно на Турцию, во-первых, потому, что большинство из них связано с нею в этническом и языковом отношении, и, во-вторых, потому, что Турция явилась пионером национализма и секуляризма в мусульманском мире и пока остается в этом отношении “правофланговым”.
Опыт, однако, показывает, что для мусульманских стран национализм — временное пристанище, где, в отличие от европейских, долго они не задерживаются. А в Центральной Азии он особенно зыбок по той причине, что границы между нациями там были проведены (в 20-е годы в значительной мере) достаточно произвольно. Секуляризм, как мы знаем, тоже плохо прививается в мусульманском мире.
Наступающий ислам низводит значения языка и крови до положения второстепенных. Кстати говоря, ислам наступает и в самой Турции; более того, за последние два десятилетия Турция стала одним из интеллектуальных центров ислама (пожалуй, третьим по значению после Ирана и Египта). Так что смена идейных ориентаций для бывших “наших” в любом случае неизбежна.
Исходя из того, что сказано выше, легко сделать вывод, что иранские ориентации, безусловно, предпочтительнее, скажем, афганских. Хотя волна исламизации любого характера или цвета создает опасности на границах России. На центральноазиатском направлении она может смешать все карты и поломать все существующие режимы, и тогда единственным “волнорезом”, встретившимся ей на пути, окажется русскоязычный Северный Казахстан (если, конечно, русские к тому времени оттуда не сбегут). В этом случае вмешательство России в его дела практически неизбежно, и скорее всего оно примет военный характер.
Пишет американский востоковед: Москва стремится “навязать гражданам своей страны восприятие ислама на Ближнем Востоке исключительно как надвигающуюся угрозу”[16]. И якобы сильно эту угрозу преувеличивает в каких-то своих корыстных целях. Такая точка зрения характерна сегодня для значительной части американской и еще большей части европейской общественности.
Я старался показать, что восприятие ислама на Ближнем Востоке не должно ограничиваться видением кривого меча с начертанными на нем сурами, что важно ощущать исходящий из центров современного ислама религиозно-культурный вызов. Вот этого ощущения Западу как раз сильно не хватает. Но, с другой стороны, Западу не хватает уразумения физической угрозы, исходящей из тех же краев. Отчасти, наверное, потому, что географически он несколько лучше от них защищен, чем Россия. И если кому-то придется принять на грудь мусульманские “туманы” и “тьмы” (оба поэтически звучащих на русском слова в языках, из которых они взяты, означают одно и то же: десятитысячное войско), в первую очередь это окажутся, наверное, россияне.
Иль “...Росс рожден судьбою / От варварских хранить вас уз”?
Но еще раз: надо различать слово в устах и пену на губах. На слово — отвечать словом. Ветер, как известно, устремляется из мест с большим давлением в места с меньшим давлением. Так вот, надо самим создавать у себя область высокого давления — надеюсь, понятно, в каком смысле (работа, которая затребует усилий не одного поколения, но только так мы сможем остаться в ряду “исторических” народов). Чтобы дуло не от них к нам, а от нас к ним.
Каграманов Юрий Михайлович родился в 1934 году. Публицист, историк, культуролог. Постоянный автор и лауреат нашего журнала. В 2000 году вел рубрику “По ходу дела”.
[1] Последний обязан своим существованием сборнику “Fundamenta”, вышедшему в США на пороге XX века, представляющему собою манифест консерватизма.
[2] Shari’ati Ali. Humanity and Islam. — In: “Liberal Islam. A Sourcebook”. Oxford, 1998, p. 189.
[3] Ibid., p. 193.
[4] Цит. по кн.: Dorradj M. From Zarathustra to Khomeini. London, 1990, p. 148, 149.
[5] Лариса Рейснер в “Афганистане” пишет о “нашей мерзкой европейской одежде”, не выдерживающей сравнения с одеждами мусульман. Напомню, что Лариса Михайловна была не только большевичкой, но и светской дамой, в туалетах знавшей толк.
[6] Искаженное араб. хашшишин, “потребители гашиша”, превратилось во франц. assassins — “убийцы”.
[7] Умберто Эко нарисовал в “Маятнике Фуко” фантастическую картину мирового оккультного заговора, высказав зловещее допущение, что “в час Икс болтающийся Маятник укажет на Аламут” (горный замок близ города Казвин, бывший твердыней ассасинов). Но в современном Иране оккультизм если и не преследуется по закону, то как минимум не поощряется.
[8] Mohaddessin M. Islamic Fundamentalism. The New global Threat. Washington (DC), 1998, p. 38.
[9] Суфии, писал Икбал, “широко распахнули двери в спекулятивный мир, который привлек и в конечном счете поглотил лучшие умы, какие были у мусульман, в результате чего государственные дела попали в руки посредственностей” (Muhammad Igbal. The Principle of Movement in the Structure of Islam. — “Liberal Islam”, p. 25).
[10] “Time”, January 7, 1980.
[11] Wright R. In the Name of God. New York, 1989, p. 38.
[12] Таков был, впрочем, общий фон. На этом фоне были возможны и совместные пирования христианских и мусульманских рыцарей в эпоху крестовых походов, и роман Алионоры Аквитанской с Саладином — целиком вымышленный, но реальный как артефакт, — которого она якобы пыталась обратить в христианство.
[13] Цит. по кн.: Gaulmier J. L’idбeologue Volney. Beyrouth, 1951, p. 106, 118.
[14] Bulliet R. Twenty Years of Islamis Politics. — “The Middle East Journal”. Vol. 53, № 2, Spring 1999, p. 195.
[15] Цит. по кн.: Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М., 1998, стр. 93.
[16] Эткин М. Ваххабизм и фундаментализм: термины-“страшилки”. — “Центральная Азия и Кавказ”, 1999, № 4, стр. 129.