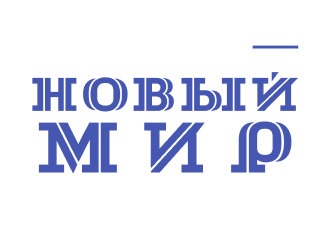ПОДАРОК
Утром на хутор прибыли три человека на черной «Волге». Люди были в гражданском, но по всему видно: милиция. Спросили Улановых. А таких на хуторе двое. Разобрались, кто нужен. Подкатили и встали возле Таисиной кухни. Позвали хозяйку, во двор не входя. Что в нем? Малая хатка-мазанка, курятник, базок для коз да огромный огород в зелени и цвету. Но приезжим нужно было другое, мимо которого лишь слепой мог пройти, не заметив.
Тетка Таиса, конечно, знала, что просто так все не кончится. Она какой день не спала, не ела — ждала. Всего, даже самого страшного. И потому, когда подъехала черная машина и позвали ее, стали выспрашивать. Все трое — высокие, строгие. А она стояла перед ними — старая, маленькая, вовсе осунувшись и потемнев лицом за эти дни. Она виновато глядела приезжим людям в глаза снизу вверх.
— Вот здесь видно, что была какая-то постройка, — говорили ей. — Или, может, собираетесь строить? Ровная площадка. Бульдозер ли, скрепер на днях работали... Свежая земля.
Она не привыкла, не умела и не хотела врать. И готова была заплакать от жгучего стыда и отчаянья. Но помог ей Господь, вразумил!
— Была постройка, была... голимую правду гутарите... — легко согласилась тетка Таиса.
Приезжие переглянулись и еще раз спросили:
— Вы — мать Виктора Петровича Уланова?
— Родная мама...
— И говорите, что здесь стоял дом?
— Такой был домина. Прямо пароход. Кирпичные низы, галереи. Теплая горница, холодные горницы...
— А кому принадлежал дом и куда он делся?
— Деда моего дом, Исая Абрамыча. Подворье наше родовое. В революцию его сожгли. А вот кто сжег, не буду брехать, не знаю.
— Это давнее, нас не интересует, — перебили ее. — А потом, кто построил дом? Был дом? И куда делся?
— Был. До чего красивый. Не дом, а церква. Отец мой, Матвей Исаич, своими золотыми рученьками... — рассказывала она, будто радуясь, что слушатели нашлись. — Все сам. А в раскулачку забрали и увезли. Больница и ныне на центральной усадьбе. С каких пор-годов? Из нашего дома.
— Но это опять — давнее... — уже сердясь, попеняли ей. — И после ведь было же? Было?
— Моя сына, ты верно гутаришь, было. Построили хату, круглую. Перед войной. А тут опять началось... Такая страсть, поминать не хочется, — искренне сказала тетка Таиса, потому что невольно, а поднималось от сердца горькое, давнее, но душой не забытое. Как забыть... А тут еще нынешний день с его неминучей бедой.
— Опять — сказки... — снова остановили ее.
— Для вас, может, и сказки, а для меня — жизня... — И она заплакала над этой горькой жизнью и стала показывать сухим черным перстом на свою мазанку: — Вот она, хата, забирайте! Меня Господь приютит! Отдохну! Дай мне, Господь, отдыху! Дай мне покою! Ничего не просила! И ничего не прошу! Лишь покою! — молила она уже не этих людей, но родного сына.
Все слезы, на которые прежде была скупа, вдруг пролились. Вся боль и горечь, которые накопились за эти дни, вдруг подступили к сердцу.
Тетку Таису вовремя подхватили, и она не упала. Ее отнесли в хату, позвали соседку.
Холодная тряпка на голову да кисленькое питье — и все обошлось. Тетка Таиса к вечеру уже оклемалась. А потом крепко заснула.
Сколько ночей глаз не могла сомкнуть. Сколько дней маялась, душой болея, а тут, видно, выплакалась, и полегчало. Словом, спала ночь словно молодая. А утром, заспавшись и все на свете запамятовав, тетка Таиса, как всегда, глянула в окошко и не могла понять. Там было пусто: ни белого забора, ни нового дома... Она долго приходила в себя, не понимая, где сон, а где явь... Теперешнее ли ей грезится: пустая земля в окне или то, что было.
Она каждый день, просыпаясь, смотрела в окно на дом. Не ее руками и волей он был построен, этот красавец: красного кирпича низы, а выше — бревенчатый, сияющий солнечной желтизной, и высокая красная крыша с башенками. Церковь — не дом. Не хочешь, да залюбуешься. И ведь не чей-нибудь, а ее — тетки Таисы. Родной сынок построил и ключи отдал: «Живи, мама, владай. Это тебе подарок от сына».
Тетка Таиса долгие годы прожила одна. Мужа схоронив еще в молодости, она вдовела с двумя детишками — Виктором и Таней. Пробовала принять мужика. Не сложилось. Так и осталась вдовой, работая в колхозе дояркой, телятницей, в иную пору — куда прикажут. Так и жила, понемногу старея, в неустанных трудах и заботах. Колхозное и свое. Небольшого росточка, сухонькая, жилистая. Огород и левада — просторные, что колхозное поле. А все — руками.
Детей она вырастила. Хорошие детки. Дочка жила на Севере, в нефтяных краях. Нечасто, но приезжала к матери с мужем, детьми, привозила подарки. Витя и вовсе был золото, а не сын. Он высоко залетел: областной начальник. Как ни глянешь в телевизор, его покажут. Тетка Таиса каждый день телевизор глядела. В семь часов вечера местная областная программа. Все дела прочь, к телевизору. Нажмет кнопку. Вот он, дорогой сынок, сидит: при костюме, с галстучком, живой! Слава богу, здоровый! Иной раз показывали издали, а иной раз так близко и явственно, что хотелось тронуть его и поцеловать. Золотое дитё. А уже тоже — годы. Чернявый был, как галчонок. Ныне волосики седые. Порою сын говорил в телевизоре, и мать слушала его, привыкнуть не могла, изумляясь: откуда чего взялось? Ведь хуторской, а куда улетел, сынок дорогой. И при той власти — в обкоме, и при нынешней — в том же кабинете. Значит, умная головочка. А для матери — сын, такой заботливый, как в сказке.
От города все же далеко: асфальтом больше сотни верст, а потом — проселком. Телефон он давным-давно провел. И каждое утро, лишь в кабинет войдет, сразу маме: «Как дела, дорогая? Как здоровье? Чего нужно?» Долго-то рассусоливать некогда, он посмеется: «Ну, давай работать». — «Буду работать, буду...» — смеется вместе с ним тетка Таиса.
Далекий от города путь, но приезжал сынок. Куда-нибудь едет по делам и завернет. «Волга» на хутор катит, все знают: к тетке Таисе, к кому же еще. Вертолет садится посреди хутора. Пыль до неба. Виктор прилетел. Но это раньше. Теперь с вертолетами трудно. Приезжал. Порой недолго гостил, два ли, три дня.
«Мама, как у тебя с едой?..» — по телефону спрашивает. Она лишь заикнется. А порой и не просит. Но чуть не каждую неделю подкатывает машина, и полный холодильник у тетки Таисы. Его тоже сынок привез.
Председатель колхоза подъедет: «Чем помочь?»
Так что жила тетка Таиса как сыр в масле. Но не копбылила нос. Такой же у нее огород, как у всех. Такие же курочки. Корову, правда, давно не держала. Возраст. Да и зачем жилы рвать при таком сынке.
И обитала тетка Таиса все в том же старом гнезде: не дом и даже не флигель, а саманная хатка-мазанка, правда, с деревянным полом, шеломистой шиферной крышей. Зимой — тепло, жарким летом — прохладно. По старым годам такое жилье было привычно. А нынче на хуторе мазанок, считай, не осталось. Строились понемногу. Еще при колхозе. Не больно богатые, но ставили дома. И тетку Таису порой упрекали: «С таким сыном — и в мазанке...»
Да и она сама не железная: нет-нет да и позавидует какому-нибудь ладному домику.
Еще в давние годы тетка Таиса как-то обмолвилась сыну: «Может, нанять людей. Лесом колхоз поможет. Флигелек поставить...»
Сын Виктор с полслова все понял:
— Сам думаю об этом. Квартиру в городе или в райцентре хоть завтра. Но ты не хочешь. А вот дом, на хуторе. Абы какой лепить перед людьми стыдно. Хороший построить — тут все как на блюде. Найдутся, пересчитают гвозди и доложат, вплоть до Москвы. Я — на виду. Мараться на грамм нельзя. На арбузной корке можно так оскользнуться, что улетишь — и не сыщут. Потерпи, мать. Все знаю, все понимаю. Сам хочу, чтобы на нашем родовом подворье стоял настоящий дом. Как только будет возможность, сделаю.
Тетка Таиса не рада была, что и затеяла разговор. Если и думала она про новый дом, то лишь для прилику, чтобы не хуже, чем у людей. А для жизни — старая мазанка, лучше ее не сыщешь. Там две печки: русская и грубка с плитой. Протопишь — тепло. А летом в ней холодок и пахнет сухим укропом, полынью. Живи — не хочу. Она и жила и думала помереть в старой хате, привычной, обжитой.
Но человек предполагает, располагает лишь бог.
Новый дом появился как в сказке.
Уже после советской власти, после обкома, когда колхоз развалился, Виктор стал чаще бывать на хуторе. Привозил людей. Говорили про землю. Потом про церковь и про асфальтовую дорогу. Кто-то из хуторских видел в степи геодезистов с треногами.
— Все будет, мама, — коротко объяснил Виктор. — Родной край, казачий, мы возродим. Эти хутора — наша родина. Здесь наши отцы и деды, и наш долг...
Он говорил это матери и в телевизоре несколько раз повторил, тетка Таиса глядела.
— Родной край, казачий... наши отцы и деды... Наша земля...
Он складно умел говорить еще во младости. А нынче — и вовсе. Только вот седенький стал сынок и под глазами — круги. Такая работа.
Новый красавец дом построили за месяц. Тетка Таиса сначала глазам не верила, потом пугалась.
Расчистили место старого дедовского подворья, рядом с мазанкой, и разом началось. Выкопали ямищу, туда не заглянешь. И повезли. Днем и ночью машины рычат. Все гыргочет. Прожектора. Дня не хватало. Людей — муравейник. Словно на доброй опаре, полезли из котлована красного кирпича стены, высокий цоколь и первый этаж, а выше — бревенчатый золотистый сруб этажа второго и башенок. Чешуйчатая красная крыша. Будто сказочный лазоревый цвет поднялся над землей и обернулся красавцем домом, какие бывают лишь в кино, в телевизоре.
Стройка смолкла. Машины и люди убрались. Уехал и сын, напоследок еще раз проведя мать по новому дому от подвалов до верхних светелок и балконов. Комнат было много. Да еще — ванные, туалеты. Кухня такая, что страшно войти: все горит и сияет. Везде кнопки да выключатели. Старой голове не запомнить.
Виктор ночевал в новом доме. Тетка Таиса отказалась. Помылась в ванной, по комнатам походила. Ключи приняла, но попросила: «Дай я, сынок, обвыкнусь».
Она и вправду боялась. После мазанки — да в такой дворец. По утрам, просыпаясь, она первым делом в окно глядела: «Может, лишь приснилось?..» Но красавец дом был на месте.
Богу молилась, завтракала, а потом шла к новому жилью. По утрам тетка Таиса лишь обходила вокруг нового дома по каменной дорожке. Оглядывала его, словно здоровалась, и убиралась к делам обыденным, хозяйским. А вот ближе к вечеру, вместе с соседкой Ксеней, они ходили, как Ксеня говорила, «на экскурсию».
Отпирали все двери и бродили по комнатам, приглядываясь. Купались в ванне, смотрели телевизор, пили чай на просторной кухне.
Соседка Ксеня хвалила:
— Рай господний... И нечего ждать. Переходи да живи...
День ото дня тетка Таиса привыкала к новому дому, он все больше нравился ей.
— Может, и впрямь перейти? — спрашивала она соседку. — Виктор звонит, серчает, велит перебираться. Хоть на краешке лет пожить по-людски. Все мазанки да норы... — оправдывалась она. — А ведь сколько трудились... — раскладывала на коленях плоские, словно клешни, но уже легкие руки.
Это теперь легко вспоминать. А тогда?.. С малых лет... А уж во взрослой поре — и вовсе. Долгое лето не чаешь, когда и кончится. Все руками. Лопата, мотыга, ведро-цебарка, коса да вилы. Все бабьей мочью да жилами. Как не упала, не умерла в борозде, когда тянешь плужок, или под страшенным навильником, с хрустом ломающим позвоночник, под тяжеленным мешком-чувалом... Долгое лето. От зари до зари. Высохнешь, почернеешь, как головешка. А зимой — не легче. Три десятка колхозных коров на одни руки. Напои, накорми, обиходь. Привези солому да сено, воду из речки. От холода, снега, воды трескаются и болят руки и ноги. Юбка из мешковины, обувка и вовсе — прах: какие-нибудь чирики. Джуреки из желудей, пареная свекла, пустые щи, тыква... И работа, работа, работа... Вот и вся жизнь.
Легко вспоминать, утирая непрошеные слезы.
— Уж трудились... — вздыхает соседка. — Перебирайся. Будем ходить к тебе в гости. Баниться. Да такой телевизор...
Телевизор был новый. Виктор привез. И антенна, какая весь белый свет принимает.
— В лото будем собираться играть.
Тетка Таиса помаленьку, но убеждала себя: надо переходить в новый дом. Конечно, не просто. Потому что это — новая жизнь. Туда не полезешь в старом ватнике да калошах. Надо все сбросить, словно изопревшую шкуру. Одежи много, целый сундук. Да какие красивые есть платки, платья, кофты. Дети надарили. Носить некогда, все — работа, которая прежде была от нужды. А теперь — лишь привычка. Есть пенсия, и дети без помощи не оставят. Все кинуть: огород, картошку, малую, но скотинку. Все оставить и спокойно пожить хоть на краешке лет. Разве не заслужила?.. Ведь каждая косточка, каждая жилочка ноет, болит, просит покоя.
Надо переходить. Она уже приглядела себе комнату рядом с кухней. Там — покойно. Окошко — большое, весь хутор видать до самого Дона.
Жить словно на отдыхе. Оставить в старой мазанке все прежние заботы: огород, картофельник, птицу. Все — прочь. Научиться подолгу спать, видеть во сне покойных родных и близких, говорить с ними. Развести хорошие цветы во дворе и доме. Ухаживать за ними. Беседовать с Ксеней, разглядывать фотокарточки, вспоминая. Как сладко вспоминать об ушедших, думать о них, молиться, надеяться, что, может быть, даст еще бог встретиться, чтобы уже никогда не расставаться. Там ведь — ни войны, ни голода, ни страха, ни тяжкой, с надрывом, работы. А может, и ничего не будет... Но думать об этом разве грешно?
В конце концов, просто пожить, отдыхая. Недолго. Всего лишь краешек жизни. Но словно в раю.
Она уже была готова к переезду. Ждала его. Остался маленький, последний шаг. Лишь день-другой.
Неожиданно, и уже в сумерках, приехал сын Виктор. Он не крутил, не вилял, а сказал прямо:
— Мама, у меня большие неприятности.
— Ребята?.. Чего?.. — всполошилась тетка Таиса.
— Нет. Все — живые, здоровые. На работе неприятность. Сама знаешь, люди есть ненавистные. Тем более у нас, наверху. Меня пытаются подставить, сделать крайним. Ничего у них не выйдет. Но... Мама, я тебя прошу, не расстраивайся. Нужно убрать дом.
— Какой дом? Мою кухню? Она вроде не мешает.
— Новый дом, мама. Его надо убрать. Чтобы не было.
— Мой сынок... — ушам не поверила тетка Таиса. — Да ты его как уберешь? Либо...
— Это, мама, мое дело. Я приехал специально тебя предупредить, успокоить, чтобы ты меньше переживала. Ты меня ни о чем больше не спрашивай. Не надо. Это для тебя — лишнее, не поймешь. Лишь поверь: это — необходимо. А твой дом вернется. Он будет стоять на том же месте. Это я тебе клянусь. Ты мое слово знаешь. А теперь, наверное, тебе лучше уехать. Чтобы не расстраиваться. Сейчас. Прямо со мной. Поехали.
Сын торопился, а выглядел не больно хорошо. Как всегда нарядный, в отглаженном костюме, белой рубашке, при галстуке, он лицом обрбезался и глаза будто прятал. В них — боль или страх.
— Все делай, как тебе надо... — через силу, но улыбнулась тетка Таиса. — Обо мне чего и гутарить. Лишь бы тебе... Я не поеду, я здесь буду молиться за тебя, чтобы помог тебе Господь... Поезжай.
Сын сразу уехал. И лишь тогда тетка Таиса навзрыд заплакала, понимая, что подступает беда. Страшно было за сына. Всякий день в телевизоре: кого — в тюрьму, а кого — и застрелят. Все люди непростые.
Она молилась за сына, вовсе забыв про дом. А вспоминая о нем, как-то не совсем верила, что его можно убрать. Все же — не одуванчик, на какой дунь — улетит. Такие хоромы.
Святая простота... С утра приехал автобус с людьми. Началась суета. К вечеру подошла целая колонна: тяжелые грузовики, краны, тракторы. Всю ночь светили прожекторы. Что-то стонало и рушилось. Ревели машины. Люди хуторские если и глядели, то издали, из своих дворов. Но что в ночи разглядишь.
Наутро, когда прогоняли в стадо коров, ни дома, ни забора возле тетки Таисиного двора не было. Лишь ровное место, вроде пустыря, но без высокой конопли, репейников да лопухов. Рыхлая земля. И все.
И конечно же, когда утром подкатила на черной «Волге» милиция, тут все было словно на ладони. Но это уже их дело — вынюхивать да узнавать. А тетка Таиса всю правду сказала. Как было за долгий век.
Потом она потеряла память.
Очнулась в хатке своей. На голове — мокрая тряпка, рядом соседка Ксеня сидит, спрашивает:
— Очунелась? Ну, слава богу.
— А чего со мной было? — спросила тетка Таиса.
В голове у нее и вправду мешалось: какой-то грохот стоял, стройки ли, разоренья, Виктор, черная «Волга» с милицией, красавец дом, пустая земля...
— Не накину умом... Этот дом...
— Не горься, — сказала соседка. — Господь с ним, с домом. Наша смерть уже на близу, докуликаем.
— Я разве об доме... — тихо ответила ей тетка Таиса и споткнулась; конечно же о сыне думала она. Но и о доме тоже.
И потом, среди ночи проснувшись, уже одна, тетка Таиса вспоминала Виктора.
Она вышла на волю, продышаться. Стояла ночь глухая, как кремень. Ни огня, ни звука, ни голоса птицы.
О сыне думалось. Всегда им гордилась, всегда за него радовалась, отстраняя намеки, молву, черные слова, во злобе ли, в пьяни брошенные. На чужой роток платка не накинешь.
Но ведь не только чужие... Еще он в комсомоле работал, в обкоме, а его родной дядя Алексей, человек городской, сокрушенно качал головой: «Ох, Виктор, Виктор... И в кого? Премудрый...» Дочь Татьяна, в давнем еще разговоре, бросила как-то в сердцах: «Ненасытный он...» Да и сама тетка Таиса, гостюя у Виктора, видела: не по зарплате сынок живет, а порой и слышала сыновий кураж: «Все есть, и все будет... Детям и внукам хватит... В наших руках...» Видно, такой обычай что у колхозного начальства, что выше: «Жить у воды — да не напиться?..»
После обкома, в начале новых времен, Виктор стал вдруг руководить банком, был там главным. А потом — банку конец. И не столько от сына узнавала, сколько доносила молва. Горевала, спрашивала: «Правда, сынок?» — «Мама, — отвечал ей сын. — Не беспокойся. У меня все и всегда в порядке».
Появился у сына магазин да что-то еще. А потом его на прежнее место позвали, руководить. Для Таисы это было спокойнее. Хотя думалось всякое. По телевизору сколь галдят. От сладкой жизни — в тюрьму. Разве не страшно? А бывает — и вовсе... Вот и конец. И тогда ничего не надо.
Думать об этом было несладко, но думалось, собиралось в одно, прошлое, нынешнее.
Ведь шла молва об асфальтовой дороге на хутор. Виктор ее добивался: «Возродим!» Надеялись и уже видели в степи геодезистов с треногами. И про церковь в сельсовете бумаги подписывали. Еще смеялись: уже хутора нет, а они с церковью...
Но ни церкви нет, ни дороги. А у Виктора вроде новый магазин появился. Да еще — дом.
Думать об этом было горько, особенно в глухой ночи, в одиночестве. Но думалось...
Тетка Таиса святой себя не считала. На веку, как на долгом волоку, бывало всякое.
Босоногой девчонкой, потаясь, таскала с колхозных полей колоски. Мама пошлет. Холщовая сумка — через плечо. Рвешь их, хоронишься. Потом — домой. Зеленую кашу варили. Голод был. А иногда налетал объездчик, порол плетью и гнал до самого хутора. Как страшно и больно... Но все равно ходили в поле. Есть хотелось.
Позднее, уж работая, в амбаре ли, на току, за пазуху, в мешочек спрячешь горстку. Дома — ручная мельничка. Мололи тоже потаясь, чтобы соседи не видели. Было страшно, за это в тюрьму сажали, на десять лет. Но куда деваться... Потом стали сытнее жить. Хлеба наелись. А вот для кур да скотины ничего колхоз не давал, приходилось брать. Зерно ли, дробленку... В сумку насыпешь. Привезут мешок-другой. Прячешь да хоронишь. В сараях, в подполе, где-нибудь в дровах да в кизяках. И все время трясешься. Вдруг с обыском нагрянут.
Даже теперь, через столько лет, вспоминать тошно. «Господи, прости... — шепчут губы. — Ты все видишь, поймешь...»
Виктор... Он, слава богу, ни голоду, ни холоду не видал. А если все правда... Какая страшная жизнь! По жердочке... Не меня ли ищут, не меня ли ловят...
А если про церковь хоть малая правда, то как замолить такой грех? Да и примет ли Бог словеса в искупленье? «Воздастся по делам...» «Надо бы поставить пусть не храм, — думалось тетке Таисе, — а малую часовенку. Когда-то была такая... Но как поставишь? Бабья, стариковская немочь...»
А тогда что остается? Лишь горевать и плакать и ждать для сына беды.
Ночная тьма стала помаленьку редеть. Пробивалась порой белая луна сквозь тучи, озаряя спящий хутор, окрестные холмы. Старая женщина пошла в дом, она не хотела, чтобы кто-то увидел ее среди ночи.
В доме она, лишь ступив на порог, узрела светлый луч, словно серебряный перст. Он тянулся через окошко к божнице, но ниже ее. Тетка Таиса подошла ближе, совсем близко и вдруг поняла. Серебряный перст тянулся не к пустому месту. Под божницей, его иконами и крестами, пониже, были прилеплены бумажные картинки: Никола-угодник, Богоматерь и еще одна, которая светила сейчас. На картинке — Христос среди цветущих деревьев; на лице его — умиление, благость. Христос и цветущие деревья...
Тетка Таиса упала на колени и стала молиться, разом поняв, что велел ей Господь. Прежде на родовом подворье были сады. Это потом все повывелось. А тогда бабушка Устинья молиться в сады уходила. Во снах, когда виделись ей родные и близкие, старое время, там были деревья, в плодах да цветах. Значит, так надо.
Сразу ей сделалось легче. Она крепко уснула, но утром, поднявшись, ничего не забыла. И принялась за труды.
На пустыре, где еще вчера высился дом, она копала ямы, таскала в корыте волоком перепревший навоз, щедро поливала, чтобы принялось молодое деревце несмотря на летнее время.
Углядев новую Таисину заботу, соседка Ксеня спросила:
— Ты чего?
— Пустое место. Глядеть гребостно, — уклончиво сказала она, а потом улыбнулась: — На хуторе садов не осталось. Пусть будет.
— Вроде не время, — сказала соседка. — Лучше сажать осенью да весной.
— До осени еще надо дожить, — всерьез ответила Таиса.
На неделе подъехал Виктор, застал мать в той же заботе. Уже зеленели десяток молоденьких груш, принявшись несмотря на лето. Таиса их поливала да укрывала.
— Мама? Ты чего делаешь?! — спросил Виктор недоумевая. — Здесь будет дом. Я тебе обещал, и мое слово твердое. Разве я тебя обманывал когда? Я сказал — значит, будет.
— Послушай меня, сынок...
— Мама, я же сказал...
Таиса подняла руку, отстраняясь от слов сына, и повторила тверже:
— Послушай свою старую мамку. Никакого дома не будет. Никому он не нужен. Будет сад. Груши тут будут расти, сынок. Раньше у нас на поместье такие были баргамоты, лимонки, черномяски. Детишкам и старикам посладиться. Мягкие да сладкие... — Она улыбалась, светлея ликом; она была там, в годах прошлых, а потом воротилась. — Даст бог, успею. Помаленьку буду глядеть. Это наши садбины, казачьи, уцепятся, будут рость. Я помру, — мягко сказала она. — Все помрем, мой сынок... Может, и хутора не будет. А груши останутся, целый курагод. Наше, сынок, поместье... Груши долго растут. Будут цвесть и цвесть... Такой сладкий дух, словно в раю, мой сынок...
Виктор стоял, слушал. Мать говорила будто о печальном. Но в голосе ее слышалась радость, и глаза светились добром, и так явственно проступало в лице давнее, полузабытое, но самое дорогое. Словно в детстве, хотелось заплакать, спрятать лицо в материнские теплые руки, в колени ее и замереть.
Но это была лишь минутная слабость, не более. Он легко ее превозмог и, глядя на старую мать свою, на ее трясущуюся голову и перекошенный рот, слыша детский лепет, стал прикидывать. Видно, пришла пора что-то с матерью делать, как-то определить ее. Сестра вряд ли возьмет к себе. На хуторе понадеяться не на кого, даже за хорошую плату. Придется что-то в городе искать.
ВОЗЛЕ ДЕРЕВА
Степное наше селенье летней порою — словно гнездо зеленое. Глянешь с высокого придонского холма: домов не видать, пенится сплошная зелень, укрывая жилье и живье от жаркого солнца да суховея. Во дворах — яблони, груши, гущина смородины, вишен да слив. По улицам с обеих сторон, а порой и посередке высокие тополя, душистые по весне акации, тенистые клены.
Когда в полуденную пору приходится куда-либо из дома идти, обычай наш — пробираться краем улицы, тенью, от древа к древу. И всякий ходок, если он не больно спешит, проходя мимо двора Ивана Вареникова, под развесистым тутовником, непременно ущипнет ягоду-другую, иссиня-черную, сладкую, с живительной кислиной.
Иван Вареников — неблизкий, но сосед мой, давний знакомый. За последние годы он очень постарел: похудел, из-под кепки седые косицы торчат. Но улыбка на лице все та же.
— Не пойму... — разводит он руками. — Ты вроде к властям поближе. В Москву ездишь. К чему идем?
Теперь он уже не работает. Третий год как бросил. Ему — за семьдесят. Всю жизнь плавал на буксирных теплоходах механиком. По Дону, по Волге. Когда стал получать пенсию, из речного порта ушел и устроился в рыбколхоз, снова на буксир, таскал рыбоприемки.
— К дому поближе, — объяснял он. — А на пенсию разве проживешь? Тем более у меня девки... Им помочь.
В рыбколхозе платили плохо.
— Не пойму... — с улыбкой разводил он руками. — Вроде рыбу ловим, сдаем... А зарплаты нет. Берите, говорят, селедкой мурманской... Как-то даже чудно...
Встречаемся мы с Иваном редко и лишь летней порой, когда я приезжаю в поселок. К почте, к магазинам стараюсь идти не улицей, а проулком, на углу которого Иванов дом. Он строил его долго и долго.
— На зарплату... — виновато улыбался Иван, когда его укоряли, — не разгонишься... Тем более девки у меня...
Но все же построил: большой, просторный. В нем и выросли дочери, теперь уже внуки кружатся.
А Иван на старости лет дачей обзавелся, на краю поселка, туда — лишь на автобусе, пешком не дойдешь. Конечно, это никакая не дача, а лишь — земля, огород с картошкой да моркошкой. Снова работа с весны до осени.
— Приходится... — с виноватой улыбкой разводит руками Иван. — Пенсия — сам знаешь какая... А цены... Прямо я удивляюсь... Ты вот бываешь в других местах... Неужели у всех так? А как в городах живут? У нас хоть земля, ковыряемся, добываем...
Но эти разговоры нынче везде — про несладкую жизнь. А про Ивана завел я речь, вспомнив иное.
Тутовое дерево растет возле его двора, раскидистое, тенистое. По-нашему — просто тютина. Все долгое лето на нем — черные сладкие ягоды, они поспевают не вдруг.
В прежние времена, в пору моего далекого детства, в поселке было трудно с водой: колодцы да журавцы — едва хватало на огород. Сады с яблоками, грушами да прочей сладостью — все это появилось потом, при воде вольной, из артезианских колодцев. А прежде лакомились тютиной, пасленом-«бзникой» да грушами-черномясками. Тютина начинает спеть рано, уже в июне у детворы синие губы и руки, на рубашонках следы спелой ягоды.
Нынче — иная пора. Все растет: от клубники до винограда и персиков. А торгуют и вовсе заморским: ананасы, бананы... Не удивишь...
Но поспевает тютина — у детворы праздник. Вольная сладость, и прямо с ветки. Правда, тутовника нынче осталось мало. Раньше сажали во дворах. Детворе поклевать да вареников с тютиной наварить. Белая тютина, красная, черная. Одна — пресная, другая — с кислиной. Бывает — мелкая, суховатая, а иная — крупнючая, в палец. «Наша сладкая...» — хвалились. «А наша еще слаже!»
Это — в прошлом. Нынче тутовник — в небрежении, а значит — в редкость. И потому Иванова тютина всему поселку известна. Он посадил ее в давнюю пору, для своих маленьких дочек, чтобы далеко за ягодой не ходили. С тех пор много воды утекло. Иван постарел, дочки выросли, тютина стала просторным деревом. И знаменитым. Одно дело — ягода крупная, сладкая. Другое — и очень важное — хозяин детишек не прогоняет.
Бывает ведь всякое. Обносят колючей проволокой деревья возле двора, сторожат, ругаются: «А ну кыш отсюда! Идите к своему двору!»
У Ивана тютина — для всех. Когда росло дерево, хозяин, обрезая лишние ветки, оставлял на стволе длинные сучья, словно перекладины лестницы, чтобы всякий малец легко мог взобраться на дерево. Вот и лезут. И расползаются по толстым ветвям. Дерево старое, раскидистое. Хватает всем места. Залезут, усядутся поудобнее, клюют...
Мимо идешь — вроде никого не видно. Лишь зелень листвы. Но вдруг слышишь сверху, из кроны, — детские голоса. Пасутся... Одни наклюются, их сменят другие.
— Айда на тютину!
— Ты ныне на тютине был?!
— Мы два раза были!
Порою дерево отдыхает. А порою налетят, словно стая. Щебечут...
Иван со двора выйдет, его не боятся. Знают, что не прогонит. Лишь иногда спросит:
— Сладкая?
— Сладкая!! — отвечают хором.
А рядом с тютиной, вдоль забора, Иван иргу насадил. «Пусть клюют... — говорит он. — А мы не такими были? — спросит у случайного собеседника. — Такими...» — и заулыбается жмурясь.
Смолоду глаза у него были голубыми, всегда в прищуре улыбки. К старости выцвела голубизна, улыбка осталась, теперь уж навсегда. Не помню, чтобы он с кем-то ругался или даже повысил голос.
Иван — моего покойного старшего брата ровесник. Они вместе росли, учились. На войну не успели попасть. Но хлебнули лиха...
Он похож на моего старшего брата, на Славу. Но не лицом, не фигурой. Слава был тучным, круглолицым; Иван — всегда худощавый и ростом выше. А вот похожи... Наш Слава тоже никогда не ругался, голоса не повышал. Допекут, он вздохнет, разведет руками и улыбнется виновато: мол, не стоит...
Брат мой умер десять лет назад. Иван, слава богу, живой. Может, потому, что на воде работал. Все же — воздух. И поспокойней. Брат мой — на тракторном заводе. В дыму, в копоти, а главное — вечная маета. Оттого и сердце болело.
Зимою в поселке я бываю редко. Ивана не вижу. Летом любая дорога — мимо его двора, мимо тютины. В теплую пору, когда спеют ягоды, дерево не пустует. Всегда на нем ребятишки. Одни наедятся от пуза, другие прибывают и сразу наверх.
— Там слаже... — смеется Иван.
Останавливаюсь, кладу в рот ягодку-другую. Терпковатая сладость. Вспоминается детство.
— Веришь, взрослые люди идут, — говорит Иван, — незнакомые, остановятся, вот как ты, и вспомянут: мол, на вашей тютине выросли. — Он смолкает, а потом добавляет потише, кивая на дом соседний, через улицу: — Выпустили его, пришел, тоже подходил посладиться, говорит, в тюрьме ваша тютина снилась. Вроде залезу на нее, как в детстве, ем-ем — и никак не наемся. Парень-то неплохой был... — вздыхает Иван.
Я согласно киваю, все понимая. Речь про взрослого уже сына нашей соседки-пьяницы. Всю жизнь она гулеванила. И сына сгубила. Второй ли, третий раз он в тюрьме. По мелочам... С такой маманей... Горькое дитё. Что он в жизни видал? Оттого в тюрьме и грезилась ему Иванова тютина, что в детстве его, может, единый свет — это дерево: зеленый кров, теплые ветви, сладкие ягоды, сверстники рядом. Как не вспомнить...
Постояли мы с Иваном, повздыхали над чужой бедой. Сколь ее. А теперь — тем более: работы в поселке нет, зато много воли.
— Не пойму... — виновато улыбается Иван. — К чему идем? Водка дешевле хлеба. Ты везде ездишь, в Москве бываешь... Неужели везде так?..
Что ответить ему?.. Лишь развожу руками. Иван все понимает.
— Надо ехать на дачу, — говорит Иван. — Колорадского жука — аж красно. И жара. Поливаем и поливаем. Дождя-то нет.
— Тютина будет слаже... — смеюсь я.
Иван соглашается.
Стайка детворы на разномастных велосипедах подкатывает к дереву. Машины — в кучу. Сами наперегонки наверх. И вот уже нет их, пропали в кроне.
Мы с Иваном расходимся. Я — на почту, ему на дачу пора. Сверху, с дерева, птичий переклик: «У меня сладкая!» — «А у меня — еще слаже!»
Ухожу. Лето перевалило за середину. Теперь дни покатят быстрей и быстрей. Не успеешь оглянуться — сентябрь. Я уеду.
Когда от поселка далеко, я вспоминаю о нем, то видится всякое: старый наш дом, зеленый двор, улица, холмы Задонья, разные люди: и те, кто живы, и те, кто давно на кладбище. Порой Иван вспомянется, мой сосед, и, конечно, вместе со своим деревом, с тютиной. Если про Ивана вспомню, то невольно улыбнусь, словно отвечая на его тихую улыбку, теперь уже вечную.
СМЕРТЕЛЬНО
Летним вечером во дворе хорошо. Кончается поливка, смолкает плеск воды, жужжание и стук насосов, моторов. Освеженные влагой земля и зелень парят, дышат прохладой. И от близкой степи веет ночным холодком. После дневной жары так славно.
Вокруг все видать. Солнце зашло, заря отыграла. Но высокое небо светит ясной прозеленью, словно отражая земное: пышную ботву огородов, купы садов, уличных деревьев: тополей, кленов, акаций, вязов. Поселок невелик, но зелен. Малые домики тонут в листве и ветвях.
Хорошо вечером. Покойно. День отгорел, отшумел. Последние нехитрые дела перед сном. Неспешные разговоры.
У Кадакиных поместье обычное: кирпичный флигель в три окна да летняя кухня в глубине двора. И хозяйство обычное: огород, сад, куры, два поросенка да дворовый кобель Грей. Такое мудрое имя присвоил собаке гостивший городской внук. Сначала язык ломали, потом привыкли: «Грей... Грейка... Грея...»
Поместье у Кадакиных невеликое, но ладное: в палисаднике цветут колокольчики, садовая ромашка, лилии; вдоль бетонных дорожек — розы. В огороде — порядок. Сразу видно, что хозяйка работящая и хозяин не лодырь.
И вечерние разговоры у Кадакиных прежде были обычными: про погоду, про картошку и колорадского жука; про дочкину семью, особенно про внука. Они — в городе. Хоть и близко, а рукой не достанешь.
Но это — прежде. Нынче, который уже день, все по-другому. Днем оба — на работе. Придут — дел полно по хозяйству, некогда языки чесать. А вот потом, когда свечереет, обычно-то возле летней кухни, под навесом — долгий ужин, да чай, да тары-бары. А нынче — все по-другому: наскоро поужинают опустив глаза, да еще радио включат, будто оно кому-то нужно. Поужинают — и опять по двору разбредутся. Хозяйка — к поросятам да птице, вроде приглядеть да запереть на ночь.
Во дворе тихо, на улице, по всей округе, — вечерний покой, и потому так явственно слышен негромкий голос хозяйки, она свою живность корит:
— Грамотные стали?.. Да... Не хотите абы чего жрать, премудрые?.. Слаженого вам да соложеного? Пирожных? — А потом печальней и тише: — Вот скоро... Без меня... придет вам пост, прижми хвост. Вспомянете... — И сбивается голос вовсе на шепот, на слезы, украдкой, с оглядкой на мужа.
Но тот — далеко. Он возле дома сидит на низенькой скамеечке, курит, собаке внушает:
— Грей... Грейка... Ты чего отвернулся? С тобой гутарят, а ты вроде гребаешь. Не имей такой привычки, Грея. Ну чего ты? Ты просил, и я тебя искупал из шланга, прохладил. Все по-хорошему. А ты отворачиваешься. Это уже наглость, Грейка. Да, да... Ты меня слышишь, Грея? Ты все слышишь, но ты не хочешь слушать. Эх, Грейка, Грейка... Дурак ты, Грейка, и боле никто. Ничего ты не знаешь, не понимаешь. Лишь с виду вроде премудрый, а дурак дураком. И нечего обижаться...
Хозяин смолкает. Горло вдруг перехватывает, саднит. И глаза... нет, он не плачет. Степану не положено плакать: полсотни лет, сухощавый, крепкий, лучший механик в автохозяйстве, внуку вот-вот десять лет стукнет. Даже пацаном не плакал, а потом и вовсе... Хотя бывало... Всякое бывало. Но плакать не положено. Не баба. Это они — тонкослезые.
Степан от жены своей сидит далеко — огород между ними — и вроде своим занят: курит да с дворнягой беседует. Но слышит жены воркованье: «Девочки мои... Хохлаточки...» Слышит и чует все потаенное: боль и слезы. Да и как не чуять?..
Врачи постановили: «Резать». И уже есть направление в областную больницу. «Кадакина Мария... Сорок девять лет...» И ведь никогда не болела, не жаловалась. А тут сразу — «онкология». Степану, конечно, сказали, а Мария сама догадалась, не дура.
Сорок девять лет, а по виду — моложе: лицо — гладкое, телом — не какая-нибудь хворостина, как говорят, все при ней. Работа — в бухгалтерии, это не мешки тягать. Может, потому и сохранилась. Сорок девять... А порою девушкой кличут. И вот тебе — «онкология». А что это, и ребенку ясно. Тем более торопят. А если по-честному, то это, конечно, смертельно. Если не дурить себя, не обманывать.
Такое вот, нежданно-негаданно, рухнуло на Кадакиных, разом жизнь изменив.
Обычно вечерами, после работы, управив дела домашние, огородные, сумерничали на воле. В доме, под крышею, душно и уже темно. На воле — долгий покойный вечер. Тишина, прохлада, зелень. Высоко в небе нежно вызванивают, перекликаясь, золотистые щурки; ласточки прощебечут, умчатся; молчаливые тяжелые цапли медленно проплывают к ночлегу, сияя снежной белизной и розовым. На душе — покой: день, слава богу, прожили.
В такую пору всегда говорили про хорошее. Про отпуск. От хозяйства не убежишь. Но все же легче. Про дочь, про внука. Должны приехать.
А теперь о чем говорить? Лишь о болезни? Так она и без разговоров из головы не идет. Потому и кончились вечерние посиделки. Ужинали, а потом расходились. Про болезнь говорить тошно, а молчать о ней и того тошнее.
Хозяйка уходила к птице да поросятам. Поглядеть да проверить запоры. Хозяин курил, с кобелем беседовал. Но думалось, но говорилось в душе только об одном.
И — странное дело — в этих раздумьях, а в первые дни в разговорах не Мария, а Степан терял голову. Плел несусветное, вроде не жене, а ему помирать. Мария знала, какую болезнь у нее определили, и даже приготовила смертную одежду, для похорон; но ее спасало детское ли, птичье неверие, что этот мир может жить без нее. Такое просто-напросто не укладывалось в голове. А Степан словно разум терял.
Он прожил с женою век и так обвыкся, что не мог иного представить. К дочери уедет Мария на день-другой, и уже все — не так. Дело не в том, что скучает. Не маленький. Но в доме все идет куролесом, за что ни возьмись. Получается не жизнь, а сплошное ожидание: когда же она вернется? А теперь чего ждать?
Когда все выяснилось, то в первый да второй день успокаивать и уговаривать приходилось Степана.
— Ну и чего... Ну и помру... — спокойно говорила Мария. — Помру, примешь какую-нибудь бабу. Катерину возьмешь, она пойдет, — сватала она свою вдовую подругу.
— Не нужна мне Катерина!
— Нужна — не нужна, — здраво рассуждала Мария, — а постирать, щи сварить...
— Я сам наварю лучше Катерины, и постираю, и с огородом управлюсь... Ты лишь сиди да указывай... Потому что мне не повариха да прачка, а ты нужна... Понимаешь, ты... — объяснял Степан, пытаясь пробить бабью глупость. — Я к тебе привык... Я без тебя не могу.
— Как привык, так и отвыкнешь.
— При чем тут привычка?! И Катерина твоя...
Тут уж начинала сердиться Мария, спрашивая резонно:
— Кто болеет? Кому операция — тебе или мне?
— Тебе... — соглашался Степан. — Но мне еще хуже... Мне — смертельно... Я лучше сто операций... — И начинал нести несусветное.
Мария — в слезы.
Так получилось раз и другой. А потом стали просто избегать таких разговоров. Что проку...
С работы приходили, сразу — в дела: огород — немалый, цветы — в палисаднике, куры, поросята, домашние заботы. Так было и нынче. Целый вечер трудились: каждый — свое. Все — привычное. Не надо указывать да подгонять.
Потом пришло время ужина. После ужина начиналось самое трудное: опять разойтись. Мария — к поросятам да курам: «Девочки мои... хохлатенькие...» А в голосе — слезы. Степан — курить да собаке внушать: «Дурак ты, Грейка...»
Но сегодня Степан протопил баньку, нагрел воды. Обычно душевой обходились. Но два ли, три дня в неделю протапливали баню, чтобы разом и состирнуть.
Вот и нынче. Протопил Степан баню, обмылся, жену позвал: «Иди...» А сам возле кухни устроился, отдыхая.
День уходил. Долгие зеленые сумерки полоняли двор, густея под кронами деревьев, в чащобе смородины, вишен. И в этом легком сумраке что-то виделось, а скорее грезилось из прошлого, из дальней дали. Вспомнилось вдруг, как в молодости ждал Марию. Встречались вечерами. И тогда были дела огородные, домашние. Степан всегда оказывался первым и думал с молодым нетерпеньем: а вдруг не придет? Мария появлялась неожиданно. У нее была легкая поступь и неслышное дыхание. Она словно возникала из летних сумерек. Не было — и вот она. «Ждешь?..» — спросит. И горячая волна радости затопляла душу. Сердце колотилось. Господи, как может быть счастлив человек, даже вспоминая...
День уходил. Над землей клубились сумерки, понемногу затопляя двор. Что-то почудилось Степану. Он поднял глаза и увидел, что по дорожке спешит к нему Мария, летящим шагом, молодая и красивая, с распущенными волосами.
— Ждешь? — улыбаясь, спросила она.
— Жду... — поднялся навстречу Степан, любуясь женой. — А мне, веришь, вспомнилось... Вроде как придремал и вспомнил, как у сада встречались. Ты ведь всегда опаздывала, я жду-жду...
— А это так положено... — засмеялась Мария и оправдалась: — Но я всегда приходила. Помнишь.
— Помню... — тихо ответил Степан, опускаясь на стул. Он из прошлого возвращался не сразу. Так неожиданно и так похоже все было: вечер нынешний и те далекие встречи. А душа и сердце так же радуются.
Жена поняла его, присела рядом. А Степан, снова уходя в далекое, взял ее руку и прижал к груди, там, где сердце.
— Вот как оно колотится, когда ждешь, — сказал он. — Когда-нибудь лопнет.
Мария наклонилась к мужу и, убрав руку, поцеловала то место, где, тревожась, гулко стучало сердце: «Придет — не придет?.. Любит — не любит?..» И тогда сердце тревожилось, и теперь, через столько лет. Мария поцеловала раз и другой, утишая и успокаивая. Но даже эта редкая, полузабытая ласка не помогла. Сердце не унималось, колотясь все так же часто и сильно.
— Чего ты? — спросила Мария и, не дождавшись ответа, словно озарением поняла то, что нужно было понять давным-давно. Вздорные, нелепые слова мужа про то, что «ему в сто раз хуже» и «смертельно», — все это правда. Былое, давнее: молодая любовь, страсть — все это не могло пропасть, а хранилось в душе, помогая жить да еще прирастая за долгие дни и годы. И как теперь это оторвать от сердца? И впрямь — смертельно. Ей легче: отвезут, будут лечить, операция — тоже не больно, потому что наркоз дадут: заснешь, проснешься — не проснешься... А для него — боль непрерывная.
Мария, все это поняв, принялась успокаивать мужа:
— Чего ты... Разве я помирать собираюсь?.. Сделают операцию. Врачи в области хорошие, их все хвалят. После операции люди живут. Алексеевна старая, а живет. Десять лет назад резали. Валя Санаксырова, дядя Тимофей... А наш Афанасьич? — называла и называла она имена людей, которых вспомнила в эти дни, чтобы себя успокоить, теперь же убеждала мужа, уговаривая: — Надя со мной побудет, при больнице, отпуск возьмет. Алевтина приедет. Разве я первая... Помогут, вылечат... Будем жить дальше... Слава богу, все у нас есть: дом и хозяйство... — оглядывала она зеленый огород, деревья... — Все у нас ладно. Розы-то как цветут... Нам с тобой еще жить да жить. Жить да жить...
Как сладко было говорить и слушать эти слова... Как сладостно верить им.
Подступала летняя ночь, затопляя округу. Тишина смыкалась от двора ко двору. Ту-у-ур... ту-у-ур... — сонно ворковала горлица, провожая день. Еще один летний день, которых лишь у Господа много.
ДЕД ФЕДОР
— Поблуда! Кошелка старая! Увеялся! Нет его!! — раздается крик на весь хутор. — Я тебя приучу к базу! Арапником! Буду гнать до самого хутора и пороть! И пороть!! Засеку до смерти! И в барак кину! Нехай тебя бирюки гложут, старая падаль!!
Это Вовка орет. Дело вечернее. Скотина пришла с дневного попаса. Старого мерина нет. Наладился он последнее время уходить на хутор Венцы, что в пяти верстах от нашего. Там и хутора давно нет. Один лишь знак. А вот уходит. Нет-нет и убредет. Вовка, хозяин его, орет. И орет не зря, надрывается. Он знает...
— Запорю до смерти! И каргам! В барак! Нехай клюют!
Мы сидим недалеко. Я и дед Федор. На хуторе — вечерняя колгота. Скотина пришла с попаса. Мык да рев. А мы — на скамеечке, руки — крестиком. Я на хуторе — гость, у деда Федора лишь овца Шура в хозяйстве.
— Запорю! — надрывается Вовка.
Лень ему мерина искать. Пешком — ноги бить, верхом — в седле трястись. Вот он и кричит, все наперед зная.
— Ох и дурак... — качает головой дед Федор. — Сгальный. Аж пенится. И вправду запорет, — тревожится старик. — Человека — как муху, а скотину — и вовсе. Останемся без мерина. А мерин — золотой, без него — гибель, — объясняет он мне ли, миру, поднимаясь нехотя.
И вот уже он шагает ко двору Вовки. А там разговор обычный:
— Не пришел, что ли?
— Нету. Увеялся! Найду — запорю!
— Охолонь трошки. Схожу, — говорит дед Федор. — Приведу.
Вовка сразу смолкает, своего добившись. А дед Федор пошагал себе, легким батожком помахивая, через выгон и далее. Путь его не больно и близок.
Летний вечер. Скотина пришла с попаса. В такую пору хутор оживает. Весь долгий день он словно дремал в обморочной жаркой тиши. Народу нынче не много. Остатки люда рабочего с утра до ночи в поле, на бахчах, в степи. Старики гнут спину на левадах, в огородах. Детвора тоже при деле. Или в счастливых заботах на речке, в лесистом займище: рыбалка, купанье, грибы да ягоды.
Лишь вечер всех сбирает ко дворам. С попаса скотину встретить, коров подоить, остальную худобу поглядеть, вся ли вернулась. Пригнать с речки гусей да уток, коли сами не идут. Вот и несется переклик:
— Ждана, Ждана! Иди сюда, моя доча!
— Рябого телка заверни!
— Камолая убрела! Сынушка, побеги за ней!
— Кызя-кызя-кызя!!
— Ух, натурная! Шелужины просишь!
Коровье мычание, овечье да козье блеянье, надсадный бугаиный рев. Скотий дух, запах молока и пыли. Красное солнце прячется за холмом.
Народ при деле. Лишь мы с дедом Федором прохлаждались возле двора, на скамейке, перекидываясь словом-другим. Теперь мой собеседник увеялся, ноги бьет. Правда, говорун из него — невеликий. В отличие от отца Федора, который не закрывает рот.
Хутор небольшой, три десятка дворов. Есть дед Федор — и есть отец Федор. Чужие иногда путают. А путать тут нечего. Дед Федор теперь ищет чужого мерина. Отец Федор и своего бы не пошел искать. А на погляд они и вовсе — как день и ночь. Дед Федор ростом высок, сухощав, прям как палка, несмотря на серьезный возраст. В одежде он аккуратен, бороду бреет, но имеет усы с острыми, чуть подкрученными кверху концами. А отец Федор хоть много моложе, но зарос диким волосом, носит опорки и плетет всякую ахинею. И никакой он не «отец», сам себе чин присвоил, упирая на свою якобы божественность: «Спаси нас и сохрани...» да «грехи наши...». Этому пусть заезжие верят и величают «отцом». Свой народ его, как и встарь, кличет Федей-сусликом.
Но разговор нынче про деда Федора, а про Суслика — это к слову, чтобы не спутали, о ком речь.
Дед Федор пошагал. Теперь он не скоро придет. Но придет, мерина поставит на Вовкин баз и доложит: «Нашел. На Венцы убрел...»
Дед Федор — говорун невеликий. Он знает, что я «пишу в газетах». Кажется, это ценит. И порой произносит со значением:
— Надо бы тебе кой-чего пересказать... Много всего. Жизня...
Не первый год мы знакомы. Но дальше «надо бы...» дело движется плохо. Даже если на столе самогон от Коли Бахчевника или от Магомада. У Магомада — такая гадость. Но иногда приходится. Когда у Коли Бахчевника простой.
Вечер. Сижу на скамеечке. Хозяева мои — при делах: подоить, напоить всю ораву. Управиться с курами, утками.
Против двора чернеет пустыми глазницами старая хуторская школа. Рядом с ней рушится мазанка бабки Груни, ушедшей лишь год назад. Дальше — кирпичные руины магазина. Лысый бугор, еще недавно заставленный тракторами, комбайнами, сеялками да плугами. Гожими, разоренными, вовсе — ржавлей. Все это лесом стояло. Теперь — голая плешь.
Деда Федора уже не видно. Помахивая батожком, он скрылся в низине. Минует луг, покажется далеко, на угоре. Недолго помаячит в светлых вечерних сумерках и скроется. Пошагал к хутору Венцы.
Дед Федор на пенсии уже десять лет. Но последние годы даются ему трудно. Прежде, когда колхоз был живой и на Лысом бугре, словно на ярмарке, гнездилась техника, в ту пору старому трактористу тосковать не давали, всякий день призывая на помощь: «Дед Федор, погляди...» А деду Федору это на руку. Жену схоронив, он жил бобылем. Сын — в станице; дочка — на Севере; все хозяйство — овца Шура. «Дед Федор, приди погляди...» И он откликался охотно, дни напролет проводя с привычным железом. Иногда и не звали, он приходил: «Ну, чего у вас тут?..»
А потом все очень быстро кончилось. Колхоз начал помирать, усыхая. Еще на центральной усадьбе как-то ворочались, а здесь, на хуторе, в два счета все пропало. Даже останки тракторов, иную ржавую рухлядь словно корова языком слизала.
В райцентре, на речной пристани, день и ночь громыхая, грузили старье на баржи для заграницы. Платили наличными. И бугор, еще вчера щетинившийся от железа, обернулся блестящей стариковской плешью. Там даже полынь не росла, вытравленная соляркой да бензином.
Остался дед Федор сиротой. Поднимется утром, наскоро перекусит и по привычке в путь. Шагает легко, красный вишневый батожок лишь для вида. Неизменная фуражка. Никаких кепочек. Рубаха и куртка-спецовка застегнуты на все пуговицы. Крепкие башмаки и брюки. Никаких чириков ли, тапочек, при которых — черные пятки наружу. Никаких спортивных шаровар с непонятными надписями. Дед Федор в одежде строг. Он похож на отставного военного. Прямой как жердь. И шагает быстро, легко.
А хутор невелик. Три десятка домов. Чуть не половина — брошенных да разбитых. Много не нашагаешь. Раз-два... И вот он — Лысый бугор, где полеводческая бригада прежде располагалась. Теперь там плешь. Даже старая кузня исчезла. Ее Коля Бахчевник разобрал и сладил на своем дворе птичник.
Глядеть на пустой бугор мочи нет. Дед Федор отворачивается и плюет в ту сторону.
Раз-два... И вот уже старая школа чернеет глазницами. Памятник погибшим солдатам с выгоревшим добела железным венком. Развалины магазина. Считается — центр. Сюда хлебовозка приезжает.
Раз-два... Надо бы шагать помедленнее, тогда и дорога длинней. Но такая уж привычка: быстро ходить.
Раз-два... Вот уже и хутору конец. Последние дома. Дальше — займище, Дон. Там деду Федору делать нечего.
— Волков боюся, — говорит он, тараща глаза и усы топорща, когда ему советуют собирать грибы да шиповник, ловить рыбу, чем по хутору блукать. — И водяного тоже боюсь.
Хутору конец — и походу конец. Надо разворачиваться. Непонятно, зачем ноги бил.
Бывает, что кто-то и встретится. Но с молодыми о чем говорить. Сверстников, считай, не осталось. А кто еще дышит, те в делах огородных.
— Здорово ночевали!
— Слава богу.
— Какие новости?
— Жук одолевает. И никакая отрава его не берет.
Дед Федор слышать не хочет про жука и отраву. Он морщится, словно сам ее откушал, и правится дальше. А вслед ему несется неслышное: «Шалается, как бурлака. Картошки бы насажал, лодырюка...» Дед Федор не любит, чтобы его жизни учили. Потому что у него своя правда: «Грядочки ваши... А тысячу гектар на одного не хочешь? А я могу. Меня профессора проверяли. Как штык... Тысяча гектаров. И везде — порядок. И урожайность... Грядочки ваши». Он поначалу спорил, доказывал, потом устал.
Рядом со старой школой, напротив нее, живет мой товарищ с женою — люди приветливые. Дед Федор заглядывает к ним на дню три раза. У них — телефон. Из станицы звонят, из райцентра, а то и вовсе издалека: «Передайте... Скажите...»
Дед Федор заходит во двор, кивая на телефонный аппарат, спрашивает:
— Ничего?
— Не звонили тебе.
— Ну и слава богу.
Старик присаживается, но поутру долго не сидит. Оглянутся — уже нет его. Сначала удивлялись, потом привыкли.
— С причудами... — вздыхает сердобольная жена моего товарища. — Возраст...
— Шестеренки постерлись, — говорит мой приятель, постукивая пальцем по голове. — Проворачиваются. И получается, что дед Федор — что овечка Шура... В одной поре.
У деда Федора живет на базу овечка-перестарка. Давно бы ее под нож. Он не режет. Раньше и покупатели находились, свои, хуторские: «Давай куплю, — предлагали. — Жирку нагуляет, съедим. Тебе она ни к чему». Дед Федор таращил глаза, фыркал: «Интересно... К чему? А волна? Да я с нее шерсти на двое валенок настригаю. Своих заводи да ешь».
Волна — овечья шерсть — складывается в мешки и — на чердак. Там ее уже шашел погрыз.
— Интересно... Моя овечка, а он ее углядел. Еще покойная бабка гутарила: без овечки — ни варежек, ни чулок. Чем зимовать?
Товарищ мой порою излишне строг, но любит справедливость.
— Кувыркнулся умом старик, — делает он вывод. — Мыкается по хутору. Прибежал, сел, через минуту — подался. Чего приходил, сам не знает. Куда бежит, тоже.
Оно ведь и вправду: у людей — огороды, скотина. У деда Федора — ничего. Но вечно занят. Мне который год обещает:
— Дела поделаем — и сядем с тобой. Много кой-чего есть обсказать. Жизня...
Садились не раз. Обедали, чаевничали, хлебали уху. Было у нас время потолковать. Но все его обещания «много чего порассказать» укладываются в очень короткое: «Трактор был поломатый. Я его делал, делал. Починил, стал работать».
Сначала про детство: «Три класса кончил и бросил школу. Сто ошибок в диктанте, арифметика — ни киле, ни миле. А здоровый был дурак. Сел на прицеп, встал на сеялку, на жатке... За первое лето хлеба заработал в четыре раза больше отца. Зимой — на ремонте. Потом — на курсы. А потом дали мне трактор ломатый-переломатый. Я его делал-делал. До трех разов раскидывал и собирал. А он не ехал. А потом поехал. Стал работать».
Про войну: «Построили нас в шеренгу. Трактористы есть? Повели. А трактор поломатый. Я ему дал ума. Поехал. Стал работать. Таскал какую-то...»
Потом был немецкий плен: «Построили. Кто трактор знает? Привели. А он — поломатый. Делал-делал. Поехал. Стал работать».
В плен попал он недалеко от дома. Здесь большие бои шли. Изловчился, ушел из плена. Немцев как раз прогнали. Явился домой, на хутор. Опять та же песня: «Трактор вовсе негожий. И запчастей нет. Я его делал-делал. Довел до ума. Стал работать».
Но это было недолго. Арестовали его, дали десять лет «за измену». В северных лагерях тоже трактор нашелся. «Ломатый-переломатый. Делал-делал его. Поехал. Стал работать».
Из лагерей «изменника» отпустили прежде срока. Четыре года отбыл, простили.
А дома, на хуторе, дали трактор. «Вовсе негожий. Одна кабина. С него все поснимали, дочиста. Я ему долго давал ума. От рук отстал. Но поехал. Стал работать».
И общее, про жизнь: «Работали... В поле и в поле. Уедем в бригаду, еще снег в балках. И до нового снега. Боронуем, сеем, культивируем, пашем. Уборка подходит. Солому стянули, снова пахать да сеять. А потом зябь — до белых мух. Да еще на целину пошлют. Там и зимой убирали, в тулупах. Всю зиму — на ремонте. И снова — весна. Как белка на точиле. Работали и работали. А ныне?.. Аж чудно... Сколько хлеба сбирали... Какие гурты, отары... Молодняк, дойные, матки, валухи. А ныне: ни колосу, ни мыку. Дикое поле... По тысяче гектар на человека обрабатывали. “Кировец” — это машина. Зацепишь три сеялки разом. Он прет. В газете про нас писали. Ордена давали. За хлеб. А ныне...»
Нынче на хуторе два стареньких колесных трактора. «Лягушата», — презрительно хмыкает дед Федор. Но для него великий праздник, когда эти тракторы ломаются всерьез. Помучаются хозяева, идут к деду Федору. Он будет глаза таращить, усы топорщить, ругая новые времена:
— Бывало, съездил в мастерскую, проточил, фрезернул. А ныне?..
Трактор он сделает, потом будет всю неделю рассказывать:
— Поломатый... Прибегли. Помоги. А там — чистый утиль. Все на соплях. А чем делать? А где запчасти? Ты мне дай запчасть. Нету... И не откажешь, свои люди. Вот и кумекай. Насилочки, насилочки... Слава богу, кой чего... — Это он про запасы: всяких железяк у него полный двор. — Поехал. Будет работать.
Дед Федор доволен. Жмурит глаза.
Но такие праздники редки. У хуторских тракторят-колесников дел не много. Лишь сенокос: повалить траву, сгрести да свезти. И опять — на прикол. На хуторе тишина. Не то что бывало.
А этому былью целый век: «Три класса кончил и не схотел. Стал работать... В марте уедем в бригаду: боронуем, сеем, потом — просо, подсолнушек, кукуруза, культивация, а там — сенокос. Ни дня, ни ночи не знали. Лишь порты поменять отпросишься. Уборка заходит, озимые, зябь. В Казахстан запрут... А там — на ремонт. А в марте снова».
Может, поэтому всякий день по утрам ему слышится голос: «Кончай ночевать!» Дед Федор вскакивает и по старой привычке торопится, наскоро завтракает. Но обязательно бреется.
И вот уже он шагает по хутору, словно военный: высокий, прямой как палка, на голове — фуражка, все пуговки застегнуты.
Раз-два... И всякое утро кажется ему, что все прежнее — сон, а на Лысом бугре — техника лесом стоит. И кричат ему, машут: «Дед Федор, погляди!»
Раз-два... Тихо на хуторе. И лысый бугор — плешь, ветру не за что зацепиться. Глядеть тошно.
Раз-два... Все дальше и дальше. До самого края хутора. Там на чужом подворье, на пригорке, колесный тракторенок стоит. На приколе. Словно на привязи. Тоже нудится. Кажется, позови — прибежит. Но как позовешь чужое? Да и зачем?
Дед Федор круто поворачивает и шагает назад. Раз-два...
Приятель мой, добрый друг деда Федора, уже проснулся, вышел на баз, заметив старика, окликнул его:
— Здорово ли ночевал? Откель правишься? Либо от бабки Марфутки?
Дед Федор лишь разводит руками, не умея объяснить, куда и зачем он ходил. И потому в который уже раз слушает журбу:
— Ты бы, дед Федор, обзавелся бы лодкой. Сетей навязал, вентерей наплел. И потихонечку промышлял.
— Ты бы, дед Федор, занялся курями. Вон Николай занялся. Сотня кур. Полтысячи яиц в неделю. Это минимум. Приехали, забрали и денежку отстегнули.
— Ты бы, дед Федор...
Старик особо не перечит. Но слушает не слова, а высокий голос тракторного «пускача». Это Чоков каждое утро заводит трактор и едет в соседний хутор, в бригаду. Там — остатки колхоза. Машина, понижая голос, переходит на рабочий режим и не глохнет, огорчая деда Федора. Если бы заглохла, он сразу бы заспешил к Чокову. Но не глохнет...
— Ты бы нашел себе дело... А теперь еще Вова-премудрый за мерином тебя бегать нанял. Он тебе хоть бутылку за это выставил? А? — Товарищ мой, деда Федора старинный приятель, любит справедливость. — Ты — человек старый. А он тебя гоняет. А ты как дитё...
Вот и нынешним вечером, когда дед Федор вернется и обязательно к нам заглянет, товарищ мой будет, жалеючи, укорять его:
— Снова таскался, ноги бил. Цепляет тебя на кукан, как глупого...
Дед Федор оправдывается всякий раз одинаково:
— Он же сгальный. Дурак дураком. Он людей не жалеет. А мерина враз запорет. Как без мерина жить? Зимой за хлебом...
Ведь и вправду зимой да в распутицу, когда хлябь да склизь, мерин выручает. Ездят на нем за хлебом в станицу. Трюшком, потихоньку, но довезет.
— А картошку людям копать? — вспоминает дед Федор. — Другого поставь. Он тебе наварнакает.
Тоже правда. Старый мерин копалку тянет неторопливо и ровно, выворачивая лемехом картофельные гнезда.
— Нет, нам без мерина нельзя. Колхоза нет, а еще и мерина лишимся — вовсе гибель, — заканчивает свои оправдания дед Федор и об ином речь заводит, тоже не в первый раз: — И ты погляди... Ведь он по степи не блукает, он на родной свой хутор идет, на Венцы. А там об хуторе знаку нет, одни лишь сады. А он приходит и становится на том самом месте, где был Юдаичев баз. Тут — хата была, тут — летняя стряпка, амбары. Я помню, мы же в соседях жили. Ныне там лишь бурьян. А он помнит. И прямо на конюшне становится, где его мать принесла. — Дед Федор изумленно разводит руками. — Сколько лет-годов... А теперь, значит, чего-то в голове. Вроде он домой идет. Идет и становится... — И, подумав, добавляет серьезно: — Я вот тоже в детский разум вхожу: одно — позабыл, другое — не помню. А свой родный хутор весь дочиста вижу. Ныне дочикилял — уж стемнело. А я все вижу, что было: от Сухой Голубой до Провалов. Калинкины, Мушкетов Исай, Мушкетов Маркей, бабка Хима, Труша Кулюкин, Иван Гулый, дед Лисан, Юдаичевы и тут наша хата.
— Значит, тоже скоро туда... — смеется мой товарищ. — Как мерин, убредешь. Будем искать тебя. И арапником...
Поздний вечер. Густеют сумерки. Коров подоили и снова прогнали с база. Теперь они будут бродить по хутору, по его пустошам, заросшим травою, добирая. А потом, во тьме, снова вернутся и улягутся, каждая у своего база, сыто вздыхая.
Летним вечером долго не хочется в дом уходить. На воле — прохлада. Товарищ мой смотрит телевизор. Жена его спит, за день намаялась — ей рано вставать. Я сижу, перебирая дневное.
Дед Федор, старый мерин... Мать моя, вовсе годами ветхая, тоже в последнее время во сне чуть не всякий день видит далекую родину — Забайкалье. Проснется — радуется: дома была.
А деду Федору снится одно и то же, он завтра придет и расскажет: «Вроде дали мне комбайн поломатый. Я его делал-делал, довел до ума. Стал работать... Хлеб убирать. А пшеница добрая. Молотим и молотим. Весь ток засыпали. Такие бунты лежат высоченные. А мы все молотим и молотим...»