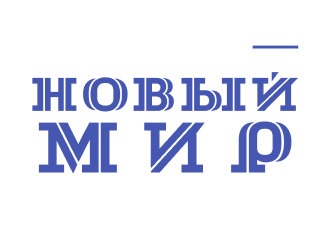Илья Эренбург. В смертный час: статьи 1918 — 1919 гг. Составитель, автор послесловия и комментария А. И. Рубашкин. СПб., 1996, 128 стр.
1913 году Европа мечтала наладить беспроволочный телефон, прорыть туннель под Атлантикой и связаться по радио с Марсом.
Каждая консьержка Парижа могла с ходу процитировать Ростана, а в берлинских меблированных комнатах считалось признаком хорошего тона вывешивать репродукцию “Острова мертвых”.
Художники сутками просиживали в мастерских, поэты часами могли декламировать собственные стихи, у кинематографистов кружилась голова от перспектив, архитекторы перекладывали музыку в камень.
И никто не мог предположить, что спустя четыре года от праздного великолепия в Европе не останется и следа.
Спустя четыре года поездка из Парижа в Петербург будет длиться неделями. Жители Берлина выйдут ночью в поля за картошкой. Поездка из Киева в Полтаву будет равносильна самоубийству. Спустя четыре года корреспондент “Биржевых ведомостей” Илья Эренбург будет спешить в Россию с линии Западного фронта: революционные события тогда только начинались, ему не терпелось быть в центре происходящего.
Два послереволюционных года журналистской деятельности Ильи Григорьевича (в ту пору ему уже перевалило за двадцать шесть) уместились, как оказалось нынче, в тоненькую книжку из ста с лишним страничек — что можно рассматривать как выгодный контраст его многотомным сочинениям романного толка в тоталитарную эпоху.
Контраст не только жанровый, ибо публицистика конца 1917 — 1919 годов — в отличие от последующего творчества Эренбурга — носила, как говорили раньше, “ярко выраженный антибольшевистский характер”. Вернувшись в Москву — и прежней Москвы не застав, — Илья Григорьевич начинает писать для многочисленных в ту пору и большей частью эфемерных изданий типа газеты “Понедельник” или “Новости дня” статьи, лейтмотивом которых станет патетическая — и часто косноязычная — неприязнь к новому строю. После ужесточения столичного режима он, как и многие, подается к югу, поближе к киевским хлебам, работая на газеты “Киевская жизнь” и “Донская речь”. “Белых встретил с надеждой” (из автобиографии).
Последний его очерк — “Мои кочевья”, от 7 декабря 1919 года — заканчивался задумчивыми вопросами о судьбе страны: “...зачем? почему?.. На то Россия...” Нам в данном случае любопытен не столько сам вопрос — тем более заданный из риторических, фигуративных соображений, — сколько пристрастие автора к вопросительным и восклицательным знакам, а также обильным многоточиям. Об идеологической подоплеке Эренбурга-антикоммуниста тех лет (равно как и рьяного защитника нового строя чуть позже) пусть размышляют историки и политологи — мы же спросим себя: что оставалось делать человеку, у которого вынули из-под ног страну и поместили на “Остров мертвых”? Что делать, если власть в городе менялась пятнадцать раз? Что и как писать человеку “с пятнадцати лет в революции”, эмигранту со школьной скамьи, который в Париже захаживал в мастерскую к Леже и Пикассо, дружил с тамошними поэтами (и под влиянием Жамма чуть не принял католичество), а ныне получает сапогом от красноармейца за контрреволюцию, как раньше, бывало, получал от городовых за обратное? Сложно, весьма сложно угадать, что ощущал Эренбург, выводя в 1918 году строки: “Я не грущу о том, что памятники Александру III или Скобелеву будут эвакуированы в склады... Трудно представить себе, что революционные истуканы будут лучше царских... Господа Луначарские, Фриче, Стекловы и прочие... показали, как они понимают искусство. Ни духа, ни формы произведений они не воспринимают, важна лишь тема” (“Le roi s’amuse”). Еще сложнее угадать, как с такими строчками “за спиной” прожил Илья Григорьевич еще сорок девять лет, — но нам, как я уже говорил, интересно здесь другое.
А именно то, что в ту самую “разреженную” эпоху двух первых лет революции Эренбург-журналист показал себя гораздо отчетливее, нежели в иных — литературных или идеологических — жанрах. Читая его сборник — сборник памфлетов, очерков, заметок? — угадываешь типичную психологию публициста, которому часто более важен прием, а не идейный кукиш в кармане, патетика, а не ее повод. Это может показаться достаточно странным — тем паче если вспомнить сборничек стихов Эренбурга “Молитва о России”, где большинство фраз чистосердечно заимствовано из молитвослова. Но, кажется, это все-таки так. Даже в стихотворных строчках “О запустении, ныне наставшем, / Миром Господу помолимся” больше публицистики, чем собственно поэзии. Отсюда и любовь Эренбурга к пафосным знакам препинания, которую он пронес через всю жизнь, — к вопросительным и восклицательным знакам, к разрядке и многоточиям. К междометиям.
В публицистическом запале Эренбург возбужденно засыпает литературного противника этими знаками препинания в большей степени, чем доводами разума. Вот очерк “Стилистическая ошибка”. Речь о поэтах в эпоху становления новой власти. Речь местами очень хлесткая (“Есенин вырвал у Бога бороду и, заставив его неоднократно отелиться, прославляет рай россиян. Клюев в „style russe” превозносит РСФСР. Мандельштам, изведав прелесть службы в каком-то комиссариате, гордо возглашает: как сладко стоять ныне у государственного руля!”), но всякий раз содержание, до которого были охочи те самые наркомпросы, перепутано с формой, которую наркомпросы, как отмечено, не воспринимали. Ибо при всем “тематическом юродстве” и Мандельштам, и Блок, и Белый создавали именно в те годы каркас русской поэзии, а И. Г., занятый “гибелью России” и “юродством”, этого замечать решительно не хотел. Что было отчасти понятно: побывав на фронтах, трудно сдержаться при виде картонных од Брюсова, а получив сапогом от красноармейца — не возненавидеть “Двенадцать”. Но такой подход оправдан только публицистической злобой дня — в то время как Эренбург решался выносить чисто литературные приговоры.
Ибо что с того, если Есенин называет себя “большевиком”, а Мандельштам славит “поворот руля”, нужно просто учитывать обаяние “большевизма”, в который большей частью бессознательно играли стихотворцы, покупаясь на неясную новизну оного.
Но пафос Эренбурга был всегда искренним — и потому с публицистической точки зрения простительным. К тому же он и в патетическом угаре умел замечать интересные черты и делать любопытные наблюдения, как, например, в статье “Нагишом”: “Напрасно иные „патриоты” пытаются уверить, что этот нож — наша русская специальность... Но разве за годы войны не было проявлено культурнейшими народами — у которых каждый гражданин ходит в театр и участвует в выборах — самого обыкновенного зверства? Разве воспитанники Магдебургского, Гейдельбергского университетов не сожгли Лувенской библиотеки, не разрушили Реймского собора, не расстреливали детей?.. Я думаю, что Садовая — не наша привилегия, и если бы вслед за тиграми империализма Европу посетили гиены большевизма, мы бы оказались, как и во многом другом, превзойденными нашими соседями”.
Иногда у Эренбурга мелькает нечто почти по-розановски трогательное. Вот дама в теплушке бежит в Изюм от большевиков, багаж — подушка, чайник, кукла дочки: “И дама, которая пять лет тому назад, наверное, была способна проплакать день напролет из-за разбитого блюдечка, теперь, улыбаясь, поясняет: „а бог с ними, с вещами... как-нибудь обойдемся... вот кипятку бы достать””. Иногда пафос Эренбурга — от утраты этих самых вещей, умных и удобных, уютных и полезных. В какой-то момент Илья Григорьевич напоминает героя собственного романа “Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца”. Еврея-портняжку, чей первый слог — “Ройт” — переводится как “красный” (и здесь с Эренбургом все ясно), но последующие, увы, переводить не хочется. Вот этот непереводимый — и непредсказуемый — слог куда важнее всех знаков препинания и всех патетических возгласов Ильи Григорьевича. В какой-то момент кажется, что писателю, как и его герою, надо совсем немного — на фоне высокопарных обличений в газетах ли, в собственном ателье им нужно: Лазику — шить и продавать штаны, Эренбургу — ездить в мягком экспрессе Петербург — Москва; Лазику — не попадаться на глаза фининспектору, Эренбургу — не слышать свиста пуль, не голодать и не видеть ячеек, где, “чуть что, сразу хватают”. Кто скажет, что Лазик и Эренбург не правы?
Его публицистика 1918 — 1919 годов — лишь промельк смятения: в ее основе тревога — а вдруг и в самом деле ничего другого не будет? вдруг всегда так и останется — холодно, грязно и неуютно, как в теплушке Киев — Москва? Говоря об “антибольшевизме” Эренбурга, нынче с придыханием упирают на “предчувствие”, “прозрение”, “предупреждение” и т. д. С точки зрения дешевого пафоса это верно — но по зыбкой, отчаянной, неуверенной форме с вкраплениями многоточий и восклицательных знаков верно другое — первое. Доказательство этому — Эренбург эпохи 30-х. Но это уже иной разговор.
Глеб ШУЛЬПЯКОВ.