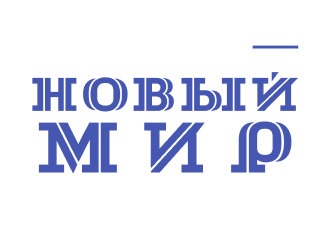Зеро
После поминок мы в подвал спустились,
и человечек в розовом костюме
давал нам поясненья —
магнистерий и красный лев —
все это было здесь. — Смотрите, —
он сказал и вынул гвоздь
и положил его в реторту,
закипела какая-то бурда.
Я все глядел, припоминая.
Мелкие черты, набухшие подглазья...
что-то где-то уже я видел.
Тут вошла полячка, держа в руках фальшивый документ,
и гвоздь достали из реторты.
Он по шляпку стал золотым.
И я захохотал.
Ну да, конечно, тридцать лет назад
я видел этот фокус,
только прежде показывал он все это тайком,
рассказывал, что в Датском королевстве
был удостоен звания магистра,
заглядывал в глаза, и люди, люди
кормили его, честно удивляясь
двум-трем словам по-датски и по-польски.
Над головой шумел ночной Нью-Йорк,
а здесь в подвале было глухо, тихо.
Столетний человек, лауреат,
с вдовой беседовал и подливал ей водки.
Все утомились. Даже с облегченьем,
отяжелев, жевали бутерброды,
лишь он один сновал, неутомим,
и важным господам в полупоклоне
свой гвоздь показывал.
Я обратил вниманье на женщину
с фальшивым документом — Дзенкую, пани, —
но она уже все спрятала
и, прислонясь к стене,
кольцом стучала что-то вроде Морзе.
Какой-то знак. По этому сигналу
в подвал спустился обладатель кубка
Индианполиса, сухой и ладный малый,
весь в черном, и за ним внесли
два ящика Клико. Приободрились гости.
Пир воспрял. Полячка подняла бокал
и снова кольцом позвякала по хрусталю,
и человечек в розовом костюме
дотронулся до локтя чемпиона,
тот обернулся полупрезрительно,
но что-то вдруг припомнил,
как будто расшифровывая Морзе,
и руку протянул, и в эту руку
был вложен гвоздь.
Все вскоре разошлись.
На набережной под зеленым небом
в стране Гольфстрима я вошел
в какой-то угрюмый дом и произнес пароль.
Слуга провел меня по коридору в бесцветный зал.
Там за столом сидели пять человек.
Квитанции, кредитки, какие-то жетоны
вперемешку лежали на расчерченном сукне.
Подпольная рулетка — так и было.
Я знал всех пятерых. Но только
не мог припомнить, что же с ними стало.
Крупье сказал мне — вот и ты, пора —
и бросил шарик на воронку.
Голый череп его отсвечивал от трехлинейной лампы,
гвардейский галстук был повязан туго.
И все проигрывали. Впрочем, шла игра по мелкой.
Крупье был холоден,
как будто бы его все это не касалось.
Я на черное поставил и выиграл часы,
отстегнутые с грязного запястья.
Никто не удивился. Полумрак
рассеивался, явственно утрело.
На углу стола сидел тот самый в розовом костюме,
свободно развалившись, так бывает
с официантом, что решил гульнуть. Он выжидал
и умными глазами следил за шариком.
Мне показалось — игра не клеится.
Все отбирал крупье.
— Сегодня не идет, — сказал губастый
с пробором равнодушный человек.
Я не видал его с тех самых пор,
как проводил на пристань в кругосветку.
— Сейчас покончим, — возразил крупье.
— Ты не играл еще, чего ты ждешь, —
сказал он розовому человечку.
— Я не спешу, — ответил тот, — приятно
со всеми вместе посидеть. А впрочем, вот ставка. —
Он за пазуху полез и вытащил...
И я узнал, узнал — та самая фальшивка от полячки.
Крупье внимательно ее перечитал
и холодно сказал: — Вполне годится.
— Ну, то-то. — Я поставил на зеро.
Другие ставки кто во что горазд.
И завертелся шарик, все привстали.
И долго-долго суетился шарик,
отыскивая сектор, и как будто
крупье его подстегивал: “давай, давай, ищи что надо”.
И остановился. Зеро, конечно.
Розовый вскочил. И подлинная вспышка на минуту
преобразила благородный шик
его ухваток фокусника.
— Что же, ты человек ноля, теперь хватай. —
И все придвинул розовому.
Куча рублей советских, замогильных бирок,
просроченных билетов проездных,
какое-то письмо без уголка.
— Бери, бери, — сказал крупье, — счастливчик,
надолго хватит.
— Что вы, господин? А золото?
— А золото сам сделай. Ты, кажется,
когда-то промышлял алхимией.
А тут другие игры.
— Отдай тогда хотя бы документ.
— Ну, знаешь, не смеши, придет пора,
он будет продан на аукционе. —
И розовый заплакал. Боже мой,
невыносима участь человека,
решившего обманом захватить
хотя бы тень, хоть промельк Абсолюта.
На набережной был густой туман,
и мы стояли, словно бы боялись расстаться
в этом млечном киселе,
потом уж не отыщут, не спасут.
И только тот, кто выиграл зеро,
так безнадежно помахал рукой.
Шаг в сторону — и он исчез в тумане.
“Волна”
До новогодья оставались сутки...
Тогда мы заскользили вниз к заливу
и вышли на заснеженный припай.
В полдневной мгле Кронштадт едва виднелся,
и все-таки яйцеобразный купол
собора различался над долиной
из льда и снега, он подернут был
какой-то мелкою лиловою штриховкой.
Мы двинулись вдоль берега залива,
проваливаясь по колено в наст,
и так прошли полкилометра вроде
до вывернутой и громоздкой дамбы
обледенелых валунов огромных —
какой-то циклопической затеи
чужих и отдаленнейших эпох.
А полдень миновал, и стало явно
темнеть, и колкий прыткий ветер
промозглую порошу закрутил.
И надо было скрыться. Только где?
Шаг в сторону, шаг влево, шаг назад —
все бесполезно, всюду мрак и вихрь.
И вдруг на дне его мерцающим пунктиром
мне обозначилась цепочка огоньков
малиновых, вишневых, голубых,
то вовсе затемненных, то, напротив,
сверкающих из бездны что комета.
А вот и башенка в гирляндах и огнях,
с полуоткрытой точно веко дверью.
И мы вошли. И тут все началось.
Квадратный зал был празднично украшен
еловым лапником и местною омелой.
Столы накрыты — матовый фарфор
и мельхиор и баккара светили
в пригашенных огнях фигурной люстры.
Ночную маленькую серенаду
из-под оборок пела радиола.
На торцевой стене резьба из дуба —
эскадра на Неве и бригантина
вплывала галсом в этот малый зал.
Из-за портьеры выскочил хозяин,
почти что двухметровый человек,
в костюме бархатном, с прореженным пробором
и низким баритоном возопил:
— Пожалуйте, — мы развели руками —
видение? — Ничуть, — ответил он, —
зовусь я Станиславом Козырицким,
сегодня день открытия, теперь
у нас свобода зрелищ и торговли,
я приобрел “Волну” и обновил.
Вы первые . Вы гости на удачу.
Приказывайте. — С этими словами
он вытащил рифленый прейскурант
и распахнул, и первое, что там увидел я:
“Рекомендуем поросячье заливное”.
— Вот это, — я сказал, и он поддакнул.
— Вы угадали, это из моих родных и собственных,
есть у меня свинарник, есть у меня конюшня скаковая
и скотный двор и три оранжереи,
и все это снабжение “Волны”.
Простите за назойливость. А вы? А вы кто будете?
— Мы гости из Москвы. Ничем не примечательные.
Только вот разве тем, что эти дни для нас
начало странствия совместного земного,
последняя и первая попытка
сложить фундамент на речном песке.
— Тогда отложим поросячьи ножки, —
воскликнул Козырицкий и пропал.
Через минуту, впрочем, появился
с ведром серебряным, откуда рдел затылок
в фольгу обернутый, бутылка “Редерера”,
шампанского, которое, как помню,
ценил Освободитель Александр.
Каким-то неразгаданным движеньем
он вынул пробку, и сухая пена
наполнила широкие бокалы,
и музыка сменилась, Мендельсон,
уже не Моцарт шел из-за оборок.
— Бог в помочь, — произнес вдруг Козырицкий.
И мы ответили: — Удачи в вашем деле.
— Да что мы прячемся? — хозяин заворчал,
и люстра вспыхнула гранеными огнями.
И тут внесли свинячье заливное,
лаваш и водку, лобио и суп.
— А все же заливное, заливное — вот лучшее...
Когда-нибудь и свинок я покажу вам.
Свинки... — Он хотел еще добавить что-то,
но, ручаюсь, по взгляду моему сообразил,
что я не понаслышке знаю свинок,
что повидал я свинок и вполне
согласен с этим кредо.
Он затих.
Териоки. 1946
Линия Маннергейма, глыбы дотов разбитых,
пионерский лагерь Архитектурного фонда...
Артур Челенгаров, Генрих Штейнберг, Битов...
На пляжах — колючка Ленинградского фронта.
Физкультурник Боб, пионервожатая Валя,
директор Иван Николаич.
Валуны на дамбах в ледниковом развале,
над которыми удочку наклоняешь.
Девочка Ира из Хореографической школы
имени Вагановой с улицы Зодчего Росси.
И все булькают, булькают пузырьки альвеолы
и растворяются в прозе.
Сорок шестой. Шоколад на полдник,
Сережа Юрский приходит с дачи.
Вот и бреду, унылый колодник,
повторяя: “Ну и что? Тем паче!”
“Горнисты и барабанисты — на флаг! Тревога!” —
орет военрук в гимнастерке и планках.
И мы выстраиваемся у порога
нашего дома в пилотках и плавках.
На Золотом пляже — трупы в бушлатах
еще зарыты там, где кабины.
И финский закат в багровых и лиловатых
цветах полушария, затонувшего до половины.
Еще можно найти и “шмайсер” и “трехлинейку”,
“Железный крест” и “За боевые заслуги”.
А будущий самоубийца Светлан Охрименко
утюжит матрасом белые брюки.
Так и тянулось с мая до школы
лето за летом, за летом лето,
а самый веселый капитан футбола —
Раф б Гуревич — пропал бесследно.