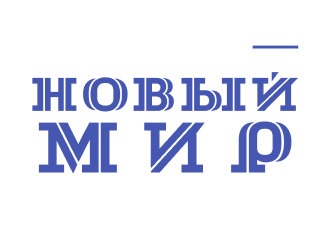Книга, которую нам предлагают, это, в сущности, путеводитель. Путеводитель по мирам, о которых мы все смутно помним (хотя бы из детских сказок), но реальности которых не предполагаем. И, наверное, вовсе не желаем ее, этой реальности. Ведь признать ее существование все равно что допустить, будто в нашей обжитой малогабаритной квартире оказались (где? откуда?!) подпол и чердак и еще множество неизвестных нам прежде помещений, населенных неведомыми жильцами. Признать ее существование значит признать серьезность того, за чем мы с таким облегчением отказались эту серьезность даже предполагать.
Таких вещей немало. Прежде всего это слово. Мирча Элиаде пишет для тех и о тех, кто не желает воспринимать слово лишь как метафору, о тех, кто ищет за ним серьезный, недекоративный смысл. Он пишет о тех, кто, ушибленный словом, способен время и жизнь отдать поиску, нащупыванию легкой и неверной ниточки, которая оказывается истинной и прочной путеводной нитью. Ниточки, кончик которой неожиданно блеснул перед нами в словах. О тех, кто способен поверить, что слова сказки, легенды, мифа могут обернуться нитью клубка бабы-яги, помогающей герою выбраться из запутанных переходов и заколдованных мест его собственной жизни. Он пишет об убийственно (или живительно?) серьезных вещах. Он пишет о настоящем, о сущем.
Знаменитый исследователь истории религий, он вникал в них не как нынешний коллекционер-энтомолог, собирающий редкости мира насекомых и честь и славу свою полагающий в открытии сотой разновидности миллионного вида, но как средневековый натуралист, читавший Божий мир словно книгу, в которой есть ответ на загадку Бытия. Он обладал удивительной способностью, дающейс только алчущим душам, отнестись с доверием к тому, что противоречило привычным культурным нормам и установлениям воспитавшего его человеческого сообщества. Он отказался (задолго до того, как это стало хотя бы по видимости привычным) от главного табу европейской культуры XIX века не предполагать реальности там, где о нее нельз стукнуться лбом.
О том, что он обнаружил, отказавшись от этого табу, написаны все его романы и повести, вне зависимости от их в высшей степени условного разделения на "реалистические" и "фантастические".
Такое разделение, определенно, не проблема автора и не проблема сочувству ющего и со-понимающего читателя. Это попытка людей, целиком находящихся под властью указанного табу, выяснить, где же они все-таки оказались. Но, кажется, именно для таких людей и писал Элиаде свои романы. Для тех, кто только попытался задуматься. Для еще не повернувших головы, но ощутивших смутное еще преодолимое желание оглянуться. Слово "фантастическое" это их способ защиты от наступающего "другого", щит и преграда, которой они отгораживают свое привычное существование, свой обжитой мир от пугающего расширения и от непредвиденного вторжения, или, как замечательно определяет Сорин Александреску в статье, посвященной творчеству Элиаде (ею открывается эта книга): "Фантастическое есть форма выживания европейца, устрашенного откровением, к которому он стремился, и останавливающегося у последней черты: что, если это правда?" Элиаде далеко не первый и не единственный автор, от которого современный читатель попытается отделаться при помощи спасительного словечка. Но с ним это не пройдет так легко, как удается с писавшими раньше. Ибо он пишет очевиднее.
Потому что ему труднее. Как будто от века к веку все сильнее расходятся края материков прежде единого мира, взорванного Боже, как давно и все время взрываемого новым, лишенным сомнений неверием (ибо, как теперь оказалось, и сомнение по сравнению с тем, что пришло ему на смену, вещь благая и целительная). И все больше смелости и напряжения требуется, чтобы заглянуть за рваную береговую линию и вглядеться в отплывающую землю еще недавно такую родную и освоенную. А теперь все больше представляющуюся недостоверной, легендарной, фантастическо й.
Элиаде из тех, кто не верит в то, что все заканчивается обрывом, из тех, кто слышит зов скрытой за туманами земли. И если душа рванулась навстречу, все оказывается так близко только протяни руку.
Необычная литература? Мы такое не просто читали это входило в нашу школьную программу. "Ты никогда не поймешь, Егор, на что я иду ради тебя!.. На что осмелилась... Если бы ты только знал, что за кара меня ожидает... За любовь к смертному!" ("Девица Кристина").
Знаем, что ожидает: "Видит, лежит на песке золотом / Чудо морское с зеленым хвостом; / Хвост чешуею змеиной покрыт, / Весь замирая, свиваясь, дрожит; / Пена струями сбегает с чела, / Очи одела смертельная мгла. / Бледные руки хватают песок; / Шепчут уста непонятный упрек..."
Знаем теперь, прочт Элиаде, что за упрек шептала Морская царевна Лермонтова: "Если бы ты мог остаться со мной, если бы мог быть только моим какое бы чудо исполнилось!"
Тот, отвергнутый неверием, забывчивостью и душевной ленью человека, мир первым начинает тосковать и рваться к соединению. Мир падших духов и духов земли, да и детей земли: зверей, птиц, трав и цветов, томится по человеку, ибо лишь в человеке его спасение и надежда. Получить прощение или обрести душу они, часть которых была отторгнута от Бога грехом и падением человека (в Книге Бытия, гл. 3, Господь говорит Адаму: "проклята земля за тебя"), могут только силой своей любви к человеку в том случае, если он откликнется на эту любовь. Лучше всех об этом написал Г.-Х. Андерсен в бессмертной "Русалочке". Знали об этом и Лермонтов, и Элиаде.
"И стали три пальмы на Бога роптать: / "На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? / Без пользы в пустыне росли и цвели мы, / Колеблемы вихрем и зноем палимы, / Ничей благосклонный не радуя взор?.." "В море царевич купает коня; / Слышит: "Царевич! Взгляни на меня!.. Слышит царевич: "Я царская дочь! / Хочешь провесть ты с царевною ночь?" Это Лермонтов. А вот Элиаде: "Мне плохо одной, любовь моя... Помоги же мне! Мне холодно... Приласкай меня, сядь рядом, возьми меня в объятия, Егор... Не хочу больше сниться... Я устала от холода и бессмертия, Егор, любовь моя!.."
Человек в зове этого мира чувствует угрозу и защищается. Нельзя сказать, чтобы он был совсем не прав. Соединение требует невероятного усилия и доверия. Из-за неспособности к ним одна из сторон гибнет. Как правило та, что страдала от разъединенности.
Но и тот, кого окликнули, не будет уже доволен и счастлив. "Едет царевич задумчиво прочь. / Будет он помнить про царскую дочь!" И герой Элиаде, Егор, вонзив железо в сердце закопанной в глубине погреба девицы Кристины (как и полагается поступать с вампирами), вместо облегчения испытывает тоску и муку беспросветного одиночества: "Больше он никогда не увидит ее, никогда не вдохнет фиалковое веяние ее духов, и ее губам, знающим вкус крови, никогда уже не пить его дыхания".
Вампир смертельно опасен, да и о русалках мы знаем много такого, что откликаться на их призыв кажется непростительной глупостью. Но они настойчиво стучат в запертые человеком двери в поисках любви. И своим любимым они не желают зла. Наоборот. Но дверь, как видим, с треском захлопывается, зашибая насмерть того, кто попытался войти.
Внешний сюжет следующей повести, "Змей", посвящен увеселительной прогулке светского общества в монастырь. Прогулка предпринята с целью сосватать жениха Дорине, девушке из почтенной семьи, которая и устраивает эту поездку. По дороге к ним присоединяется незнакомец, и далее пересказ внешнего сюжета бессмыслен, потому что действие переходит в иной план, смыслы начинают обволакивать сюжет, изменять контуры каждого события, как это почти всегда происходит у Элиаде. Пересказанные, его произведения не просто оказываются не равны себе они становятся другими произведениями.
Смысл повести в том, что здесь достигается равновесие устремлений двух миров друг к другу. Здесь особенно очевидно, что для водворения сакрального в профанном, для воссоединения разорванных миров требуется согласие и встречный порыв нашего мира, готового радостно и смиренно принять мир тот. Недаром лишь одна из героинь, Дорина, получает полное посвящение (инициацию, то, без чего так страдает современный мир, по Элиаде; ведь инициация, обряд перехода, и призвана воссоединить два мира, связь между которыми человек не способен восстановить самостоятельно). Для других то, что происходит, лишь неприличное, скандальное происшествие, оснащенное некоторыми фокусами ловкого пройдохи, цыганского выкормыша. Всем дается пробежать по лесу в священном беге, но для многих это так навсегда и останется всего лишь игрой в фанты.
Здесь тот мир уже не бьется телом о стальную решетку, установленную людьми порядочными и благопристойными, чтобы защититься от его вторжения, подобно тому как втыкали ножи в подоконник сёстры невесты Финиста ясна сокола. Нет, он приходит лишь к тем, кто открыт его приходу. Миг равновесия краткий и неверный, ибо чем дальше, тем больше люди этого мира будут пытаться отыскать тот мир (именно в таком порядке расположены произведения Элиаде в рецензируемой книге) и напарываться на ими же воткнутые ножи.
В "Змее" же реальность того, что принято считать сном, и того, что принято считать бодрствованием, сочетаются в счастливом равновесии, сливаются в одно до такой степени, что люди, далекие от того, чтобы рваться к границам профанной реальности, удобно разместившиеся в самом центре профанного мира, становятся свидетелями священного брака хотя и находятся в полной растерянности, недоумении, негодовании и жарком стыде перед его лицом.
Но угроза звучит и здесь. Нет, это не обещание неодолимой тоски по уничтоженной твоими же руками отторгнутой половине, тоски неизбывной и смертной, потому что поиски обречены (тобой же самим!) на вечную неудачу; это не проклятие, но предупреждение: в случае неисполнения условия (ведь дл воссоединения всегда нужно соблюсти условие, часто непонятное одной из сторон) будешь искать своего другого (жениха или невесту) девять лет.
А девять лет в устах того мира это может быть ох как долго! Не выполнившего условие вполне может ожидать судьба Агасфера (повесть "Даян") недаром Элиаде называет его душой человечества. Все человечество когда-то не выполнило услови и теперь скитается свои "девять лет", топча железные сапоги и глодая железные хлебы, и кто знает, когда конец пути. Агасфер ждет конца за каждым поворотом и все обманывается и обманывается.
Элиаде не случайно все время обращается к сказке и мифу, не случайно и при анализе его произведений уместнее всего прибегать именно к ним: для него миф и сказка ключи, дающие доступ к отсеченным позитивистским сознанием частям реальности, "провожатые" к жизненно важным, но утерянным тайнам. "В иные времена, говорит его Агасфер, люди любили сочинять легенды и сказки и, не сознавая того, через сам акт доверчивого слушания проникали во многие тайны мира". И далее: "Учись, Даян, различать условный язык за языком повседневно сти". Учитесь, учитесь, говорит Элиаде своим читателям, сказка это гораздо более вправду, чем ваши привычные "вправду". Но кто-то успокаивает себя, как иногда и персонажи романиста: снится, это лишь снится...
Снится? Но в мире Элиаде в "снах" нет ничего успокаивающего. В тысячах и тысячах "снов" повторится обращенный к вам вопрос пока наконец, наученные повторением, вы не ответите правильно чтобы хоть немного проснуться. И только хоть немного проснувшись, вы сможете понять, что все те ужасы, с помощью которых вас так безжалостно учили, были лишь сном. Но для этого нужно не безвольное спокойствие, а усилие к пробуждению.
Чтобы дать правильный ответ, нужно обрести совсем иное спокойствие спокойствие человека, "у которого нет ничего, кроме надежды". Но если тебя, как героя повести "У цыганок", одолевают бесплодные сожаления и тягостные воспоминания, если ты снова и снова ворошишь былое, а оно способно только сбить, увести, заморочить, то ты вновь и вновь не дашь правильного ответа, не угадаешь, "которая цыганка", и вместо рая, вместо гармонии мира, вместо чуда, ожидавшего тебя, вновь и вновь будешь попадать на пыльные, жаркие улицы своего города, не важно, в одном или в другом времени, и блуждать по ним, разлученный трусостью или недогадливостью со всеми, кого любил.
Нет, Элиаде рассказывает нам не о снах. Он говорит с нами о вещах, о которых мы, в силу ущербности нашего воспитания, не привыкли слушать, о свободе, которую, раз уж она утеряна, необходимо завоевывать правильным выбором, правильным ответом на предложенный вопрос. Причем нас вовсе не стараются сбить с толку: те, кто задает вопросы, не менее нас заинтересованы в правильном ответе. Отторгнутое нами (то, без чего мы так несчастны, и не подозревая о причине своего несчастья) робко ждет, чтобы мы поняли указание и подсказку, чтобы вслушались, наконец, и в вопрошание и в себя и дали бы правильный ответ, чтобы вновь было "чудо как хорошо".
Не угадывающий, пытающийся защититься от вопросов отстаиванием своих амбиций, цеплянием за свои случайные и отрывочные знания, герой повести "У цыганок" вместо рая попадает в ад жары и ужаса, в хаос случайных вещей с их случайными превращениями, в позор и стыд наготы и отдельности, противопо ставленности всему и всем: "Почти у самого окна путь ему преградили устрашаю щие звуки: голоса, смех, шум отодвигаемых стульев, словно бы целое общество вставало из-за стола и направлялось прямиком в его сторону. Он увидел себя: голый, тощий, кожа да кости когда он успел так отощать? И при этом что за новости с безобразно отвислым животом!" Вновь испытав страх и стыд и единственное желание спрятаться, укрыться, герой начинает тянуть на себя портьеру. И та откликается на его желание (воистину, каждый получает то, что хочет, но не каждый этим доволен!), свертывает его, обвивает туго со всех сторон, накрыв с головой. Где отдельнее и "безопаснее" человеку, чем в саване?
"Дальше мы стали играть в прятки", рассказывает герой старухе, перед которой вновь очутился, не попав в рай. Вновь и вновь он играет в прятки с самим собой, прячется и скрывается сам от себя: таит свою трусость и нерешительность, маскируя ее попытками строгой респектабельности. И даже выброшенный в другое время ну как иначе оторвать его от дурманящего его прошлого и вновь одарить надеждой, он ни в чем не признается себе; и даже встретившись с давно утраченной, преданной им любовью, из-за потери которой пропала, ушла в песок вся его жизнь, он будет продолжать оправдываться. И ничего не поймет.
Это ему скажет героиня: "Снится, всем нам снится. Так это начинается, похоже на сон", слова, которые один почтенный рецензент книги Мирчи Элиаде адресует всем ее читателям. У меня нет ни уверенности, ни гарантии есть только надежда на то, что это несправедливо. Надежда, что мы не безнадежны. Нужно только помнить про себя: "Если не угадаю, кто из них кто, при свете, придетс бегать за ними и ловить их в потемках". Не желающий видеть и понимать подсказки слепнет и теряет способность увидеть. Задача при этом вовсе не облегчается.
Как бы хотелось наглядно показать, в чем разница восприятия замкнувшего с в усеченной реальности человека и того, кто захотел видеть дальше. "Не играй с ножом, говорит один из героев Элиаде девочке, подпавшей воздействию иных сил и воль, ангел-хранитель улетит". Это не поэтический троп, не метафора. Когда "зрячий" видит, как на улице человек, а тем более малый ребенок, ругаетс матом, он не возмущается из-за попранных "моральных норм" он приходит в ужас. Есть народное поверье, что от ругающегося "по матушке" (слово-то какое) Богородица на семь лет отворачивается. Право, незачем воображать себе, что "Бог наказывает", у него нет в этом необходимости, достаточно попустить людям совершать то, что они будут совершать без Его присутствия.
То, чему учит Элиаде, вроде... техники безопасност и. Он учит понимать, что если мы уж погрязли в плену причинно-следственных связей, то причин в мире гораздо больше, чем нам нравится думать. Мы ведем себя так неосторожно, что странно не то, что столько бедствий и болезней обрушилось ныне на человечество, странно, что мы вообще еще живы.
О тех, кто помогает нам выжить, рассказывает Элиаде в повести "Загадка доктора Хонигбергера". Здесь создается как бы "порог", связывающий два мира: люди таинственной Шамбалы Агартхи, знаменитой Невидимой страны Востока, ушедшие из этого мира, но не перешедшие в мир тот, создают как бы остров на грани двух миров. Они берут на себя функции сохранения этого мира, мира, где все больше людей не приходит в сознание и не отваживается на понимание даже под угрозой глобальной катастрофы, да что там даже тогда, когда то, чего они больше всего боялись, уже случилось.
Это, впрочем, даже не "порог", не "остров", но мостик, цепь, звено которой и рассказчик, коему "на роду было написано лишь до самой смерти лелеять ее (эту страну. Т. К.) в своих печалях и не узнать никогда". Его тоска и печаль по недоступному иному залог встречи и обретения.
Крест воссоединения. Те, кто берет на себя миссию воссоединения, всегда оказываются в центре креста. Не Восток и Запад, не цивилизацию и примитивные общества хочет в конечном итоге обернуть друг к другу Элиаде, но, пробив броню западного человека сколь угодно долгим обходным маневром, вновь привести его к Богу. Не к умозрительному богу западных моралистов, которого следовало бы выдумать в случае его несуществования, но к Живому Богу, в бытии которого верующий гораздо менее способен усомниться, чем в своем собственном бытии, не потому что "верит" в Него, но потому что знает о Нем.
Смысл обходного маневра сам Элиаде объясняет в своем труде по истории и теории религии "Мифы. Сновидения. Мистерии", недавно вышедшем на русском языке. Автор настойчиво предлагает западной культуре хотя бы вглядеться в смысл и значение обрядов перехода, сохраненных "примитивными" культурами. Он сразу предупреждает, что в этом вглядывании мы не откроем ничего принципиально нам неизвестного. Ничего такого, чего мы не могли бы найти в собственном заброшенном духовном наследии, за чем требовалось бы непременно обращаться к индусам, африканцам и жителям Океании. Но часто долгий путь бывает самым коротким. Элиаде приводит историю о раввине Эйсике из Кракова, рассказанную Мартином Бубером. Этому раввину во сне велят отправиться в Прагу, чтобы там, под мостом, найти спрятанное сокровище. После того, как сон повторился трижды, раввин отправляется в путь и, придя в Прагу, начинает слоняться у моста, чем привлекает внимание капитана стражи. Тот вежливо спрашивает его, не потерял ли он что-нибудь. Раввин рассказывает ему свой сон. Капитан со смехом говорит, что не верит снам, а то давно уже должен был бы отправиться в Краков и в доме раввина Эйсика в пыльном углу за печью искать спрятанное сокровище ему это много раз было велено во сне. Раввин немедленно возвращается домой, находит в пыльном углу сокровище и живет безбедно до конца своих дней. Так, для того, чтобы отыскать нечто, лежащее под самым носом, но заброшенное и покрытое пылью от неупотребления, нужно отправиться за указанием в далекие страны.
В своих художественных текстах Элиаде предлагает читателю руку для поисков заброшенного сокровища, ведет его далеким путем к нему же в дом чтобы отыскать там забытый мир и ответ на самый главный вопрос. Нужно только всерьез решиться за ним последовать.
Татьяна КАСАТКИНА.