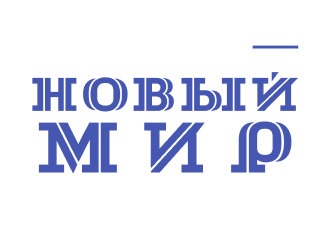"...Ластится к небу ЯЛТА: нежным йотом соскальзывает в ленивое протяжное А, приподнимает язык в полугласном эЛ и мягко, вкрадчиво, как дверца БМВ, прикрывается Т с кратким А. Й-а-л-та.
Солнце. Черные кипарисы. Синее море, белый пароход - щегольской круизник, плавучий отель, беззвучно выгребает на середину залива.
Чайка машет крылом.
По набережной, вдоль раскатанного волнами моря, под пальмами и крымскими соснами, мимо кофе и портвейна "Массандра", валютных менял и музыки мимо, бесконечной толпою шествуем мы, профсоюзно-путевочные - с лицами, чуть напряженными от непривычки к празднику.
Мраморно-белесого утопленника, накрытого разломанными картонными коробками, уже убрали...
Солнце сияет по-прежнему.
И хороши жесткие реечки лежака на "бомондном" пляжике гостиницы "Ореанда". Летят под облаками мачты бывшей киношхуны, а ныне ресторана "Эспаньола". С хрустом потягиваются налитые шоколадные тела "новых русских".
Над гроздью светло-зеленого винограда "Италия" у моего лица зависли маленькие пчелы с прохладным именем сильфиды.
И девушки проходят - раскачивают упругий стебель позвоночника, кажут обнаженное модным купальником бедро; очертания столь безупречны, что уж никакой эротики - одна эстетика.
...Пока записывал эту фразу, солнечный луч из-под навеса переполз на виноград, и виноградины засветились изнутри янтарным теплом (11.44, 6.10, 1994, пляж, Ялта)"
- описание несколько выспренно, но трудно удерживать равновесие, когда - вдруг - отлетела, отстучала колесами, сгинула, как морок, за горами черная слякотная Москва. Когда вокруг тебя снова ЛЕТО, состоящее из бессмысленно-истомных мгновений. Из тех, которые не остановить. И не надо! С несокрушимой детской уверенностью в личном бессмертии все ждут следующего и следующего не менее прекрасного мгновения. И вся эта яркая, легковесная, вполне утробная и прекрасная при этом, и мудра при этом жизнь называется ЯЛТОЙ В ОКТЯБРЕ.
А рядом, в пяти минутах ходьбы от набережной, шелестит листьями безлюдная улочка со сквером и белым памятником над клумбой (места моих уединенных прогулок). Глаз цепляется за табличку на углу "Ул. Б-ова" и равнодушно скользит дальше - мало ли безымянных для нас имен. Революционер какой-нибудь или партизан. За две недели так и не накопилось интереса, чтобы заставить себ подойти к памятнику и выяснить.
И уехал бы не узнав, если б однажды у лотка букиниста не потянулась рука к небольшому буклетику. "Дом-музей Б-ова в Ялте". Книжечка раскрылась - сама - на странице с фотографией и подписью: "К-в - первый биограф и исследователь творчества Б-ова". ...Оказывается - писатель! Более того - "дом-музей", "первый биограф"!
И потому в первый же пасмурный день, ломая привычный маршрут, ноги сами подвели меня к памятнику. Вблизи - нечто романтически-напряженное, плакатно-комсомольское в стиле поздних шестидесятых. И как водится - чуть-чуть паутинки, скула облупилась, птичка посидела. Из опознавательных знаков - значок на груди, то ли лауреатский, то ли комсомольский (честное слово, уже не помню, как он выглядел), да им на постаменте... В отдалении забор с указателем "Дом-музей" и открытая калитка.
...с непонятным волнением, со стыдом и чуть ли не страхом. Откуда? Ничего подобного, когда входил, например, в Дом-музей Чехова. Как будто тебя ожидают все еще завешанные полотенцами зеркала и недоуменный, с плохо скрытой брезгливостью взгляд вдовы.
К тому же надпись за стеклом входной двери: "Открыто. Звоните".
Рука зачем-то поднимается и жмет кнопку звонка.
Но, слава богу, открывает молодая женщина - музейный работник, это видно. Зажигает свет в комнатах, начинает рассказывать, и ей можно сказать: нет-нет, спасибо. Не надо. Я ориентируюсь сам.
Интересно, и в чем же ты ориентируешься?
При входе - справочная таблица с перечнем жизненных этапов. Начнем отсюда и не торопясь:
1912 - родился в бедной семье...
1922 - вступает в пионерский отряд...
...избирается членом редколлегии стенной газеты...
...участвует во всесоюзном слете рабселькоров от орехово-зуевской пионерии...
...работает на фабрике... вступает в комсомол... вечерняя школа ФЗУ...
...избирается членом бюро комсомольской ячейки...
...избирается редактором газеты...
...избирается делегатом VII съезда ВЛКСМ...
...избирается... и т. д.
И похоже, это не послужной список для характеристики, а действительно биография.
Далее: ранняя болезнь, инвалидность, самообразование, занятия литературой, первый ("еще незрелый") роман "На хуторах", поступление и учеба в Литинституте и Инязе. Заочно. Работа над вторым романом. Война. Документальная повесть о Лизе Чайкиной. Переработка документальной повести в роман "Чайка". 1951 - Сталинская премия. 1955 - переезд в Крым. Активное участие в работе местной писательской организации, регулярное присутствие на съездах СП СССР, РСФСР, УССР. Умер в 1966 году.
Все как и ожидалось. Включая и то, что я - единственный посетитель музея. И буду, может быть, единственным за весь день. Или за неделю.
По-хорошему, следовало бы уйти сразу после чтения биографической справки. Хотя бы из уважения к покойному: как-никак ты в его доме. Да и по отношению к себе - не слишком здоровое занятие упиваться трупным запахом некогда грозных, а ныне поверженных - не тобой поверженных! - времен.
Но сразу уйти тоже неловко. Раз уж пришел...
Итак, литературная экспозиция:
фотография "лобастого" мальчика с пионерским галстуком помещена на стенде рядом с наппельбаумовской фотографией Ленина. Потом будет фотография и другого вождя, правда, несколько конфузливо, "компромиссно" поданная. Об этом чуть позже. А пока заводские стены и дворы, где проходила ранн юность Б-ова. На лечении в санатории. В поездке по Узбекистану - сбор материала дл романа "о дружбе ивановских ткачей с хлопкоробами Средней Азии". Учебник узбекского языка. Фотография Лизы Чайкиной. Верстки с правкой автора. Лауреатское удостоверение. Фото: писатель за работой - полулежа, с папироской, машинка, лист торчит из каретки. И еще: писатель перед читателями в полевых условиях - на переднем плане Он в инвалидной коляске, укрытый одеялом, в кепке, с листами рукописи; перед ним на траве в неудобных позах сидят несколько человек, в основном женщины. На заднем плане то ли поле, то ли заросший пустырь. Кустики какие-то угадываются. Подпись: "Б-ов читает главу из романа "Чайка" перед рабочими Московской камвольно-прядильной фабрики им. М. И. Калинина".
И так далее.
Сюжет для соцартовца. Или, скажем, для Е. Добренко. Уже сами обложки книг Б-ова - культурологическая экзотика: багрово-коричневый закат на картонном переплете, берег раздольной реки, убогие избенки, высокая береза гнется под злым порывом ветра. По багровому небу - золотом: "Сквозь вихри враждебные". На титульном же листе заголовок отпечатан красной краской. Жанровое обозначение отсутствует, но послесловие названо "Рождение эпопеи". (Из послесловия: "...к постижению великой, народной, советской души... все более мужественному и мудрому служению народу ведет Катю партия...")
В коридорчике оформлен стенд, посвященный роману Б-ова "Тверда земля". Одна из сюжетных линий романа - борьба с Промпартией и изобличение ее "главаря Рамзина". Тема эта доминирует в экспозиции, начина с портрета Сталина и кончая фотографиями из зала суда. Снято в момент голосования за смертный приговор. На плечах голосующих погоны. Поднятых рук много. Очень много. Весь огромный зал в едином порыве: казнить! Очистить родную землю от гадов! Б-ова там, разумеется, нет, он голосовал годы спустя отсюда, из этого дома.
Собственно литературная экспозиция занимает одну комнату и часть коридоров. Остальные помещения на первом этаже - мемориальные. И в прямом и в переносном значении слова. Уже в самой планировке дома, в распахе окон и дверей как бы запечатлен статус хозяина. Коридор расширяется перед широкими двустворчатыми дверями, ведущими в Главную Комнату. Здесь жил и работал Он. Добротная мебель пятидесятых годов: шкафы, письменный стол у окна, пишущая машинка, "Москва", кажется; рядом - просторная кровать, еще один - журнальный - столик, портрет хозяина на стене, писанный местным художником, могутный ламповый радиоприемник, телевизор. Ковер, занавески. Все это, наверно, удобно и даже - уютно, будь помещение хоть чуть поменьше. Главное же в этой комнате - некий сакральный холодок ее пространства, как бы заставлявший посетителей на секунду задержать шаг в дверях, чтобы окинуть взглядом всю ее, чтобы дать себе отчет, где ты и перед кем. Кажется, что комната изначально задумывалась дл приемов и идеологических ритуалов после смерти ее хозяина; для слов (до сих пор помню мурашки по спине и стеснение в горле, с которыми когда-то, в другом, разумеется, месте, произносил их): "Я Юный Пионер Советского Союза Перед Лицом Своих Товарищей Перед Лицом Родной Коммунистической Партии Торжественно..." - так, кажется.
На письменном столе - последний и необходимый штрих - в музейной торжественности застыли торчащие из специального стаканчика остро заточенные карандаши.
А в холле Дома, высвеченный мощными лампами, стоит бюст Б-ова. Он помещен на фоне черной карты звездного неба. Там у созвездия Секстанта выделена малая планета.
С 1973 года планета эта носит им Б-ова.
На фотографиях литературного окружения Б-ова абсолютно неведомые мне лица. Смутно знакома фамилия Кедриной и, кажется, Котова. Канувший и уже таинственный мир литературной субкультуры - советской? областной? комсомольской?
И уж полная для меня загадка - фотографии литературных учеников Б-ова. Оказывается - были.
Выставленные на стендах тексты Б-ова я читал почти с восхищением. Отточенная, отлакированная тяжким трудом литературная беспомощность могла бы сделать любой из этих листов ценнейшим коллекционным экземпляром, если бы листов этих Б-ов не изготовил тысячи. Из них состоят его романы, каждый объемом с "Обломова" или "Анну Каренину". Чистота жанра изумительна. Сымитировать подобное не под силу и Сорокину:
"Они прошли мимо Соколова, и он услышал, как Маруся спросила:
- Тот мужчина тебе не родной отец?
Лиза засмеялась:
- Нет, но лучше, чем родной.
- Кто же он?
- Секретарь райкома.
- Секретарь райкома? - удивленно вырвалось у Маруси. Она оглянулась на Соколова. - А этот молодой человек кто?
- Наш редактор.
Маруся приостановилась.
- А вы кто же будете?
- Почему "вы"?
- Да ладно, ты, - засмеялась Маруся.
- Я? Я пумовская. Соседки, - сказала Лиза.
В тот день Маруся попала домой только ночью. До позднего вечера просидели они под сосной у дороги. Лиза забыла, что ее ждут на поляне товарищи, а Марус - что ей далеко идти. Расставались, пообещав друг другу часто встречаться.
Маруся шла домой задумчивая".
Однако автор недоволен. Он правит, он вставляет фразу, должную улучшить текст:
"Маруся с удивлением почувствовала, как от взгляда смеющихся глаз Лизы у нее становится теплее и легче в груди".
Это - уровень письма.
Следует, наверно, поговорить и о содержании романов Б-ова. А может, и не надо. Достаточно - я проверил потом, полистав его книги, - вполне достаточно аннотации:
"С большой теплотой изображены в романе его основные герои: чекист Степан Орлов, его сын Илья - комсомольский вожак, сестра Степана Елена, уехавша строить Турксиб, его второй сын Василий, участник боев на сопках Маньчжурии. С гневом изобличает автор книги происки иностранной разведки и лагеря белоэмигрантов, стремившихся путем диверсии и шпионажа подорвать успехи первой пятилетки. В последней части романа показан крах контрреволюционного заговора, опрокинутого мощным трудовым порывом народа, строящего социализм".
Вот как бы и все. Сюжет незамысловат. Еще один железный рыцарь соцреализма. "Гвозди бы делать из этих людей..." Я не утрирую - все так, ограничься мы двусмысленной логикой музейной экспозиции. Но стоит употребить здесь слова, от которых Б-ов всегда предостерегал своих "биографов", - болезнь, инвалидность, как сюжет обретает пугающую глубину и сложность.
Определяющим событием в жизни Б-ова стала производственная авари на строительстве, где студентом техникума он проходил практику. Рыл с товарищами котлован под фундамент нового цеха. И в уже готовый почти котлован однажды ночью выхлестнули грунтовые воды. Охотников лезть в осеннюю затопленную яму и забивать ожившие скважины не находилось. И в воду пошел Б-ов. "Воодушевленные его примером, - пишут биографы, - комсомольцы становятся рядом... укрощают стихию". Далее - жесточайшая простуда, больница, осложнения и трагическая ошибка врачей: начиналось известкование позвонков, а Б-ова, лишив его спасительного движения, укладывают в гипс. Процесс стал необратимым. Когда гипс сняли, способность двигаться сохранили только руки, вернее, кисти рук. Даже голову не повернуть. Позвоночник окаменел. Б-ову было всего восемнадцать лет.
Именно тогда он решил стать писателем. Решил жить и пером продолжить борьбу за дело Ленина - Сталина. О существовании Николая Островского он еще не знал. Решение было самостоятельным.
Цель изначально недостижимая дл него. Кроме того, что нужно было ежедневно, ежечасно преодолевать физическую немощь, постоянные боли и душевную угнетенность, кроме того, что нужно было противостоять тяжелейшему быту - а проходил он тогда по жизни "на общих основаниях", в нищих провинциальных "инвалидных домах", - нужны были литературные способности, хот бы минимальные. Увы. В беспомощных рабселькоровских заметках и стихах невозможно различить даже проблеск одаренности. Первоначальное литературное образование он получал за чтением "Овода", "Спартака" и "Красных дьяволят". И если судить по библиотеке в доме Б-ова, чтение художественных текстов было для него сугубо функциональным - он "учился, учился и еще раз учился". Истово отрабатывал в себе писателя. Поступил в Литинститут - для ремесла. В Иняз - для культуры. Чему он там научился, сказать трудно. Главной наукой в его жизни была наука мужества и стойкости. Здесь ему нет равных. Длительное путешествие по Средней Азии для сбора материалов было бы в те годы тяжким физическим испытанием и для здорового человека. Б-ов же проделал его неподвижным инвалидом. В начале войны Б-ов сделал все, чтобы стать военным корреспондентом. Разумеется, не получилось. Но это уже не его вина.
И всю жизнь он работал по десять - двенадцать часов. До изнеможения. Пока карандаш не выпадал из обессиленной руки.
Предаваться же мучительным размышлениям, что есть литература и что есть я в литературе, было непозволительной роскошью. Занятием самоубийственным. Писательство и вера в торжество коммунизма стали для Б-ова формой борьбы за жизнь. Единственную, которую он видел. Я бы сказал, что Б-ов представлял некую биологическую особь: "советский писатель".
...Так что же, юродивый? Не думаю. Слишком просто: отклонение от нормы - и все. Нет, это не юродство. Потребность обрести некую духовную опору вне себя, обрести высший смысл существования и освятить им свою мученическую жизнь - признак нравственного, душевного здоровья. Печать избранничества, если хотите.
Почему высшим смыслом стала именно советская литература? А почему - нет? Миф этот творили не только Панферов с Павленко. Там были и Маяковский, и Пастернак, и Олеша, и Бабель, и молодой Платонов и т. д., и т. д., и т. д. До сих пор хранит обаяние романтическая (хотя и чуть парфюмерная), но писавшаяся в полную силу проза - "Кара-Бугаз" Паустовского или шедевр именно советской литературы - "Тридцать ночей на винограднике" Никола Зарудина. В таком контексте замысел романа о "дружбе ивановских ткачей с хлопкоробами Средней Азии" уже не кажется анекдотичным. Он был человеком своего времени. Человеком прямым и чистым. И что поразительно, сохранившим свою чистоту. Судьба оберегала его. Во всяком случае, удивительно вовремя возник "крымский вариант". Внешне все просто: резкое ухудшение здоровья и предложенный медиками выбор: сери операций с сомнительным исходом или смена климата. Крым. Оказалось, что именно Крым и нужен был. Московский оттепельный воздух середины пятидесятых становился опасным для Б-ова. Что-то сгущалось вокруг, приближая появление "Ивана Денисовича" и "Хранителя древностей". Крым же по-прежнему оставался вполне советской кузницей здоровья, номенклатурным пансионатом. По утрам Ялта заполнялась людьми в пижамах, с обветренными на магаданских вышках лицами: немногословными - та еще школа - чекистами. Излюбленными героями Б-ова. Время здесь не торопилось.
Да и уровень письма областных классиков был на порядок ниже столичного. Историко-революционный пафос Б-ова не смотрелся здесь архаикой. В Крыму он шел вне конкурса - исключительность судьбы ("наш Островский"), поразительная работоспособность, общественный темперамент, ну и, разумеется, Сталинская премия. Его авторитет в местной писательской организации был непререкаемым. В Крыму выходили его книги. Здесь готовился его многотомник.
Здесь построил он свой Дом. В центре города, в уютнейшем его уголке, по собственным чертежам - не дворец, но вполне просторный, с мансардой, точнее, вторым этажом, с великолепным садом; весь как бы приспособленный для его работы и его славы. Сюда приходили писатели, читатели, пионеры, инвалиды за словом Учителя. Где-то там далеко, в суетной ожесточенной Москве "молодогвардейские мальчики" использовали его имя в своих литературных играх. Здесь же была не игра - жизнь, прочная, настоящая. Здесь была его Ясная Поляна.
Мало того что Крым подарил Б-ову еще десять лет жизни - Крым подарил Б-ову то, чего, казалось бы, навеки лишила его судьба: физическое движение. Б-ов решил научиться плавать, используя подвижность кистей рук. Матросы-спасатели заносили его грузное тело в воду, опускали, и он тут же шел на дно. Его вылавливали, вытаскивали на берег, чуть ли ни откачивали. И он требовал повторения. Его заносили в воду снова, и снова, и снова. Измученные, испуганные матросы пытались отговорить. "Ничего, ничего, ребята! Не робей, я не выдам", - эту фразу я услышал от экскурсовода. Его снова заносили в воду. И наступил день, когда он смог немного задержаться на поверхности. Потом он держался около минуты, потом - около пяти. А затем Б-ов плавал в воде до часу.
Мощная легенда. Во всем. И в явленном здесь мужестве, и вот в этом, советско-номенклатурном, присутствии "матросов-спасателей". Но надо помнить, что заносили они в воду не просто инвалида-сановника. Они заносили в воду лауреата Сталинской премии. А Сталинская премия - не Букеровская. Это социальный и экономический статус на всю жизнь. Возможность построить в центре Ялты двухэтажный дом и содержать на свои средства приезжающих инвалидов. И одновременно - особая ответственность за чистоту доверенного тебе имени Сталина, почти обязательность вот такой образцово-показательности. Звание обязывало... Хот на самом-то деле ни к чему оно, конечно, не обязывало. Сталин как раз вполне трезво оценивал своих лауреатов. Выслушав жалобы нового партийного куратора над писателями на их писательские бытовые, моральные и прочие закидоны, он с мудрой циничностью обронил: "Других писателей у меня для тебя нет. Управляйся с этими". Вождь ошибалс - были. Истовое служение имени Сталина питалось у Б-ова не только верноподданническими чувствами. Он принадлежал к тем, кто действительно верил в "великое дело Ленина - Сталина" и всего себя положил во имя этой веры. И счастлив был своим трудом, и даже самим своим страданием. И жизнь свою, несмотря ни на что, прожил счастливо. И умирал победителем. Рядом с его мужеством и стойкостью, с его цельностью меркнет и Мересьев. Про нас с вами я уж и не говорю, наше с вами ерничество по поводу Б-ова было бы даже не безнравственным, а попросту жалким, пошлым. Бессильным.
И что? Получается в итоге, что душевная цельность, гармония могут строиться на любой почве? Ибо какая еще обеспеченность - биографическая, личностная - нужна для "трудного счастья" Б-ова?
Получается, что мне, например, уже и не важно, о чем он писал. И как писал. Важен сам факт - писал. Смог стать писателем. По крайней мере поводов сомневаться в этом у него как будто не было.
А это значит, что существенно не содержание твоей модели мира, а сам факт наличия таковой. И абсолютно без разницы - какой. Да любой! Даже вот такой: с красными флагами и классовой борьбой. Вот это ужасно. Если так, то действительно согласишься лизать сапоги у Сталина.
Одно спасение, одна опора - в эстетике. Ее не обманешь. Для виноградного вина потребен виноград. Мерзлой картошкой не заменишь.
Может, это предположение из полузапретных, но количество правки на рукописях Б-ова - не качество, а именно количество - провоцирует. Слишком заметно, как он старался. Изо всех сил старался дотянуться, соответствовать. Чему? Установке? Проходному уровню или... Предположим то самое. То, что сладостью и кошмаром сопровождает жизнь каждого пишущего: его личные взаимоотношения с Музой. Муза всегда мыслилась Б-овым одетой по моде времени в кирзовые сапоги и косынку - Муза-товарищ, Муза-соратник. Но неужели не являлась она перед Б-овым в облике юной девы, с дудочкой в руках? Обворожительной и непредсказуемой. На склонность которой не действует ничего - ни твое постоянство, ни добросовестность. Слишком часто одаривает она "невесть кого", в упор не замечая "достойнейших". Мука, известная всем художникам, независимо от степени их дарования. Она похлеще неразделенной любви. Любовь за несколько лет перегорает в пепел. Эта же - закабаляет на всю жизнь. Сколько изломанных судеб, сколько как бы немотивированных провалов даже у замечательных мастеров - в желчь, яд, агрессивность так называемого "гражданского служения".
Это и есть высший суд.
Знаешь, почему нам так приятно и легко писать? - спрашивал в пятидесятые годы Гроссман у молодого Некрасова. Да потому, что мы в конечном счете - любители, а не профессионалы. Профессионалы слишком часто пишут путом. Причем потом кровавым. Он проступает на их страницах.
Б-ов писал только кровавым потом. Это была изматывающая, обессиливающая работа, когда текст плывет и плывет, не в силах ухватить и сотой части того, что хотелось бы выразить; когда слово, язык становится чем-то вроде листового железа, которое надо гнуть молотом. И рука тянется в который раз перечеркнуть, переправить, и как в дурном сне: сколько бы ты ни напрягался, ты остаешься на том же месте. В полном одиночестве.
Б-ов истово служил Музе. Всю жизнь. Безответно.
Не знаю, нужно ли читать его книги. Слава богу, они не состоялись. От суда истории его спасла бездарность. Единственное, что Б-ов оставил после себя, - Дом. Только здесь способна оживать легенда о его жизни. И не отмахнуться от этой фигуры, как от некой угрюмой окаменелости, бесследно затерявшейся в складках минувшей (будем надеяться - окончательно) эпохи. Эпоха та невытравима из наших генов.