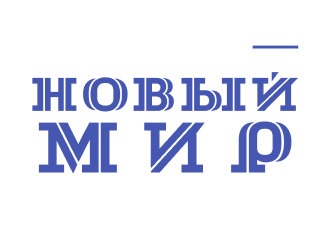Игорь Долиняк. Мир третий. Повесть. “Звезда”, 1993, № 10.
В этой повести есть все, чтобы она читалась, как захватывающий психологи-ческий детектив, — Ленинград, 1946 год, жестко прописанный быт “городских низов”. В центре повествования — мальчик, исповедующий кодекс чести героев Майна Рида и Вальтера Скотта; одиночка, вступающий в неравную схватку с шайкой бандитов. Местная шпана намерена использовать его как наводчика и участника налета на генеральскую квартиру. Он сопротивляется, но силы неравны. У блатарей свои методы воздействия. Герой перед выбором — или помогать бандитам, или быть убитым. Ситуация безвыходная. Мальчик обречен. Но в последний момент (как требует детективный жанр) он решает нанести упреждающий удар — убивает одного из бандитов, своего мучителя Жигу. Налет сорван, банде нужно прятаться от милиции, привлеченной загадочным убийством. Бандитам не до мальчика. Он добился свободы и независимости. Он победил...
Повесть эту можно прочитать и как образчик жестокого социально-психологического реализма. Как повесть-обличение, развенчивающую миф о безмятежном школьном и пионерском детстве (“Витя Малеев в школе и дома”). Перед нами судьба “маленького человека” эпохи тоталитаризма, сына репрессированных родителей, гонимого одноклассниками, беззащитного перед шпаной. Множеством выразительно написанных эпизодов, деталей и подробностей тогдашней действительности подчеркивается внутреннее родство государственных установлений и законов уголовного мира.
Но вот странность — похоже, что сам автор в общем-то равнодушен и к собственно детективной, и к социально-обличительной линиям своей повести. Скажем, криминальный сюжет обрывается в том самом месте, где он набирает максимальную напряженность, и читатель вправе ожидать рассказа о событиях, происшедших после убийства Жиги (вспомним, что в знаменитом романе другого петербургского литератора события после убийства героем старухи-процентщицы занимают еще добрую половину романа). Да и сама сцена убийства прописана у Долиняка не до конца, она обрывается описанием нимба, появляющегося вокруг головы поверженного врага, — лужа, черная в темноте и похожая на мазутную, “ползла к стене, захватывая все новые и новые плитки мозаичного пола. Она была безмолвной, но ни горной лавине, ни океанскому валу сроду не породить такого ужаса. Может быть, я закричал, может быть, молча бросился на улицу”. Далее, скороговоркой — про “далекий ноющий звук” со двора наутро, “то ли где-то терли по стеклу, то ли повизгивала собака” — причитания матери убитого; два абзаца про страх разоблачения, и, наконец, финальная фраза: “А бандиты исчезли, Вовчики, Левчики и прочая шпана и блатари словно бы растворились в бредущих по улицам толпах”. И все... На триумф победителя мало похоже.
Что же касается “обличительного реализма”, то с этим определением плохо сочетается явная несфокусированность авторского взгляда на, может быть, самых выигрышных для демонстрации социальной разобщенности, неравноправия разных слоев советских граждан реалиях. Скажем, контраст образа жизни героя и его знакомого, генеральского сына, фиксируется почти бесстрастно. Практически незадействованным остается мотив репрессированных родителей мальчика. И так далее. Иными словами, задача показать, как “все это было на самом деле”, не главная для писателя.
Что же тогда главное? За счет какого сюжета повесть Долиняка удерживает читательское внимание от первой до последней фразы? Сюжет этот я бы определил так: история столкновения (или опыт столкновения) человеческой души с той стихией жестокости и нравственной патологии, которую писатель назвал в повести “третьим миром” и которая отнюдь не ограничивается миром уголовным.
Но вначале — о характере повествования. Оно ведется от первого лица. Голос рассказчика принадлежит человеку уже вполне зрелому. Потребность вернуться к одному из самых тяжелых воспоминаний детства вызвана тем, что вставшие когда-то перед героем вопросы оказались так и не разрешенными всей его дальнейшей жизнью. Тяжесть их не преодолена, время ничего “не расставило по местам”. И потому необходимо снова вернуться в детство, снова пережить прошлое в надежде понять, “отчего же произошла моя трагедия”, в надежде, что исповедь, положенная на бумагу, “отбирает часть боли и помогает собраться с силами”.
Присутствие в интонации повествования, в его содержании временнуй и психологической дистанции, кроме всего, помогает читателю еще и отслоить авантюрно-приключенческий и социально-бытовой пласты повествования от основного, который разворачивается в главном для автора сюжете.
Сюжет этот повествователь начинает с рассказа о запойном чтении героя. Вальтер Скотт, Стивенсон, Жюль Верн, Буссенар — они взрастили в воображении, в сознании мальчика целый мир — “первый мир”, что “окружает голову подобно гигантскому пузырю, от горизонта до горизонта и до самого неба, реальность лишь проглядывает сквозь его полупрозрачную поверхность”. Именно “первый мир” формирует жизненные представления мальчика, кодекс поведения, базирующийся на “отважной уверенности в несокрушимости справедливости и добра”. Но пока мальчик под защитой “мира второго” — собственно детства, протекающего в глухом поселке Северного Казахстана; под опекой своеобразной среды ссыльных (“Внимательные глаза, интеллигентные бородки и позабытые теперь пенсне объединились моей памятью с запахами навоза, овчины и кубриковой сжатостью жилищ, освещенных лилипутскими оконцами”).
Детство кончается отъездом мальчика с теткой в Ленинград. И действительность сразу же поворачивается к нему “третьим миром”. Поначалу только обескураживающим его. “Я въезжал в нищету и голодуху, но втертую не за бревенчатые и кизяковые стены, а в камень...”, “...мы вошли во двор-колодец серовато-желтого цвета и по черной лестнице, дыхнувшей холодком, поднялись на второй этаж”. В школе он встречает “скудоумное невежество”, подражание приблатненной шпане, трусоватость, подловатость, привычку быть унижаемыми и привычку унижать более слабых. Его независимость одноклассники принимают за знак особой близости к блатному миру. А затем, поняв, что особой защиты у мальчика там нет, начинают травить его. И тут книжное воспитание как будто помогает герою. “Обломить” его в школьных драках не удается, “начиненный образцами неуступной отваги, я не боялся боли и не знал страха”. От мальчика отступились. Но увы, путь к этой победе ничему его не научил. И происходит неизбежное — “гонор” мальчика останавливает на себе внимание дворовой шпаны. За него берутся уличные блатари. Избиения и издевательства принимают регулярный и особо унизительный характер. “Мир третий” разворачивается перед мальчиком во всей красе. Самое страшное тут — не боль и даже не страх, а ощущение полного бессилия перед мелкой, но опасной, сбитой в стаи дрянью. Для этого мира мальчик со своей интеллигентностью, чувством чести, достоинства — слюнявое ничтожество, кусок испуганного мяса, которое можно и нужно бить, пинать, душить, оплевывать. Нужно потому, что любой, кто пытается жить по своим законам, кто “высовывается”, уже фактом своего существования оскорбляет тупые, неспособные к размышлению силы “третьего мира”. Отсюда маниакальное постоянство и неутомимость истязателей мальчика.
Пока мальчик меняет маршруты, пока прячется, “прокрадываясь полутемным двором”, стиснув зубы переносит удары, плевки, угрозы, он еще держится. Но держится из последних сил, цепляется за остатки романтических представлений. И именно они в ответственнейший для героя момент не уберегают (скорее наоборот) от главной его ошибки — согласия искать защиту в самом “третьем мире”. И защиту ему обещают. Но за определенную плату: дай наколку, ты вхож в дом генерала, помоги нам проникнуть туда. Мальчик загнал себя в угол. Кульминационная точка этого сюжета: мальчик случайно видит Жигу в обществе бандитов, тех самых, которые должны были бы защитить его как раз от Жиги. Герой понимает, что проиграл, что он уже давно пешка в их игре. Мальчик капитулирует. Собственно, убийство Жиги, на которое он пошел, — только форма все той же капитуляции. Мальчику кажется, что это выход: шум вокруг убийства спугнет бандитов, заставит их отказаться от налета на квартиру, сделает его свободным. Рассуждения мальчика абсолютно логичны. Но это уже навязанная ему логика. Да, конечно, злодеи гибли от меча благородного рыцаря, но в “мире первом” герой побеждал в публичном поединке при свете дня, а не прятался в ночном парадном, в простенке, с остро заточенной кочергой. Формально мальчик побеждает, он смог выполнить задуманное, смог подчинить события своей воле, смог отвоевать свободу. Но практически сразу же, глядя на растекающуюся вокруг головы Жиги кровь, он если и не понял, то почувствовал, что и сам повержен. От этой крови уже не отмыться. И что толку, что бандиты, что “третий мир” отпустил его, теперь он сам — “третий мир”.
...Странно, но, видимо, в этом есть какая-то закономерность — присутствие рядом с собой сил “третьего мира” мы ощущаем постоянно, однако тема эта редко становится предметом литературы. А если это и происходит, то, как правило, в произведениях, посвященных детству (но отнюдь не детских). Возможно, объяснение лежит в области психологии: наиболее беззащитны перед силами “третьего мира” мы бываем именно в детстве, когда у нас еще нет тех социальных ниш, которые мы обретаем с возрастом и которые жестко ограничивают наш круг занятий, круг общения, возможный круг контактов. В детстве же мы просто “выходим на улицу” погулять. И кто из нас не мечен шрамами (на теле, на душе) тех детских столкновений со всесокрушающей, тупой силой “третьего мира”. Возможно, память о них (сознательно или бессознательно) и заставляет нас успокаивать себя мыслью, что мы-то уж давно повзрослели, окрепли, освободились от “детских” страхов. Конечно, можно нарваться на пьяного в автобусе или на грабителя в темном подъезде. Но ведь от этого не убережешься, как от молнии или землетрясения. Мы можем размышлять и говорить всерьез о тиранах, о Сталине и Гитлере; серьезная тема, достойная. А вот об этом нечто, клубящемся вокруг, мелком, вонючем, нагловато-агрессивном, лезущем изо всех щелей? — да бог с вами, еще на это нервы тратить! Хватит этих переживаний в детстве... А может быть, здесь другое? Может быть, мы подсознательно догадываемся, что по-прежнему так же бессильны перед этой силой? Что пришедшая со взрослостью прочность — миф. И на самом деле наша независимость от “третьего мира” — это только обретенные с возрастом навыки избегать прямых столкновений с ним?
Короче, есть в этой теме что-то как бы стыдное, полузапретное.
Ну а нужно ли вообще стыдиться своего бессилия перед “третьим миром”? Возможные ответы: да, нет. И оба, на мой взгляд, абсолютно правильные. “Да, нужно стыдиться” — потому что самое стыдное — это не наше бессилие, а стремление скрыть его от себя. “Нет, не нужно стыдиться” — потому что сила “третьего мира” действительно Сила. Она непобедима в принципе. Можно бороться с преступностью, и даже успешно. Можно бороться за гуманизацию государственных установлений. Можно, наконец, воспитывать в людях культуру, как бы изнутри меняя стиль человеческого общежития. Но надеяться стать победителем “третьего мира” наивно.
Долиняк написал повесть — и это очень важно понять — не о столкновении своего героя в детстве с “дурной компанией”, не о неких гримасах послевоенной действительности, а об одной из универсальных ситуаций нашей жизни, о некой неизменной данности. По сути, предложенный Долиняком образ “третьего мира”, смысловое его наполнение очень близки к тому, что французский философ-экзистенциалист Симона Вейль определяет понятием Сила. “Сила есть некий феномен, который превращает в предмет, в “вещь” каждого, кто оказывается в поле ее действия. Того же, кто попадает под прямой удар, она превращает в вещь буквально: был человек, стал труп... Сила, которая убивает, — лишь примитивная, грубая форма силы. Насколько же более разнообразна в своих выдумках, насколько более остроумна в своих эффектах та, иная, которая не убивает — еще не убивает. О, она несомненно должна убить. Или, вероятно, может убить. Или нависает над головой того, кого в любой момент способна убить. Но во всех этих случаях она превращает человека в камень. Власть обратить человека в вещь, убив его, порождает другую власть, куда более удивительную, способную обратить в вещь человека еще живущего (курсив мой. —С. К.). Да, человек живет, он наделен душой, а все-таки он вещь. Ну и странное же он существо — вещь, обладающая душой, — и странное это состояние для души. Кто знает, сколько душе приходится в любое мгновение скручиваться и изгибаться, чтобы приноровиться, чтобы ужиться в вещи? Душа ведь не создана обитать в неодушевленном предмете, а коль скоро она к тому принуждена, то нет в ней клеточки, которая не страдала бы от этого насилия”.
Вот эти страдания души, противостоящей Силе, и изображает Долиняк. Нас не должна вводить в заблуждение непрезентабельность обликов “третьего мира” в его повести (“Один — с косой челкой, рылисто-монументальный и толстогубый... лицо... не выразительней огромного щербатого булыжника”, другой — “передвигался... на манер маленькой обезьяны, сгорбив спину и болтая обвислыми руками у согнутых колен; лицо его при этом всегда съеживалось в гримасу, наподобие той, когда собираются сплюнуть”). И Гитлер, и Муссолини, и Сталин импозантны только издали, рассмотрите их вблизи — та же мелкая дрянца, то же человеческое убожество, закомплексованность, болезненная жажда самоутверждения и т. д. Фигуры их наделяет величественностью и значительностью не масштаб их личностей, а место, которое занимает в нашей жизни сама Сила, от коей они представительствуют.
Финальные слова повести: “...блатари словно бы растворились в бредущих по улицам толпах”. Именно растворились. “Толпы” приняли их в себя как органическую часть. Присутствие “третьей силы” повсеместно. У Долиняка это не только сами блатари и приблатненные, но и вполне добропорядочные соседки мальчика по коммунальной квартире, признающие право шпаны на власть, это советское начальство, перенявшее у уголовников даже стиль общения с подчиненными. Это само государство, десятилетиями жившее по законам, дух которых мало чем отличался от законов уголовного мира. И мальчик Долиняка, идущий на убийство, еще не знает, сколько мук предстоит принять его душе в будущем: “Если бы неведомая сила вернула меня в детство, в сорок шестой год, и поставила на то же самое место, я, глядя на разлетающийся в обе стороны проспект, не пережил бы и первой минуты, раздавленный непереносимым, как сама эпоха, томлением. Томлением в том смысле, как понимали в старину, и означавшим муку. Меня расплющили бы кумачово-черные десятилетия, которые предстояло бы еще вынести, годы, спрессованные из казенных коридоров, пионерских комнат, красных уголков, испитых лиц, торжественных собраний, стадных шествий, ликующих радиоголосов и свинцовой тяжести передовиц”.
Вопросы, над которыми размышляет писатель, в принципе не имеют и не могут иметь непосредственного выхода в “практику”, не имеют и не могут иметь однозначных ответов. Это, повторяю, не предупреждение обществу об очередной грозящей ему опасности и не напоминание об уроках прошлого. Размышления писателя вообще в другой плоскости. О возможностях и пределах сопротивляемости души мертвящей силе “третьего мира”, о проблеме свободы в данности, почти исключающей свободу. Иными словами, перед нами произведение, в котором разрабатывается экзистенциальная проблема.
Мы уже приучены современной литературой, что произведение, претендующее на философичность, заявляет об этом прежде всего своим декором. И потому с некоторой опаской поворачивается язык, называя прозу Долиняка философской. Уж очень, казалось бы, незамысловато она строится, почти архаичной по нынешним меркам кажется серьезность интонаций повествователя; что же касается реминисценций, то если они и есть (скажем, традиционный для русской литературы образ Петербурга), то спрятаны где-то в глубине содержания. Правда, игра с символами, подчеркнутая амбивалентность образов здесь иногда встречаются, но это как раз не самая сильная сторона повествования. И тем не менее правильное прочтение новой повести[1] Долиняка возможно, на мой взгляд, только в философском контексте, экзистенциалистском, если угодно.
Полагалось бы сказать несколько слов о недостатках повести, критика (А. Немзер) уже отметила их наличие. Но в данном случае они не имеют существенного значения. С поставленными перед собой задачами Долиняк-мыслитель и Долиняк-художник справился без видимого напряжения.